
 |
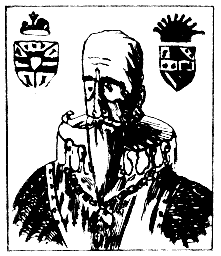 АЛЬТА-ТОРРЕ
1493 — 1576 |
| Ложится снег. Его ковром пушистым Покрыты улицы, дома, сады, крыльцо, И мехом золотистым и душистым Ты закрываешь плечи и лицо. Мороз тебе не страшен, но страшна В такую ночь спокойствием луна. |
С другой стороны, поэт близко подходит к тем настроениям, которые развивали ранние символисты, в особенности К. Бальмонт.
Мы встречаем у В. ярко выраженный индивидуализм, поклонение любви как всеобъемлющему жизнеутверждающему началу, воспевание эроса в стихах, напоминающих оргиастические культы древности.
Понятно, как ново, заманчиво и вызывающе звучали такие стихи, например, как «Полдень»:
| Полдень. Жарко. Бархатистый Мох — нам мягкая постель. За рекою серебристой Заливается свирель. Будто мехом золотистым, Что овал плеча скрывал, И пушистым и душистым, — Я косой твоей играл. Дай, сорву с тебя покровы, Обнажу тебя до дна: Нимфы, фавны вечно новы И в любви всегда весна. Поцелуи крепче вдвое! Взор угас от страстных мук... Только крик «Эван! Эвоэ!» — Повторяет всё вокруг... |
Прибавим ещё, что В. превосходно читал свои вещи. Неудивительно поэтому, что фразы: «Приходите сегодня к нам — обещал читать Полынский», или: «У нас обещал сегодня читать свои стихи огненный Ростислав» (В. был блондин, с несколько рыжеватым оттенком), — служили обычной, но неотразимой приманкой для интеллигенции Костромы, часто предпочитавшей творчество В. стихам представителей столичного Парнаса. На огромную популярность нашего поэта указывает и то обстоятельство, отмеченное статьёй «Поэты родной реки» в газете «Нижегородский листок», что ещё в 1901 г. его стихи распевались в виде частушек во многих приволжских городах, а в Самаре исполнялись частями гарнизона в качестве солдатских песен (на мотив — «Соловей, соловей, залётная пташка» и др.). При этом любопытно отметить, что текст стихов значительно перерабатывался анонимными редакторами, упрощаясь, но в то же время приобретая новую выразительность.
Так, например, стихотворение «Свиданье» выглядело у автора следующим образом:
| Для восторгов тайной встречи Ты пришла на страстный зов. Обнажи скорее плечи Из сверкающих мехов! |
Редакция частушек существенно отличалась от оригинала:
| Для любовной нашей встречи Ты пришёл без лишних слов. Затуши скорее свечи, Задвигай скорей засов! |
В 1906, 1907 и 1908 гг. В. проводит несколько месяцев в Петербурге и в Москве. Ряд его стихов печатается в «Весах» и «Золотом Руне». В том же 1908 г. поэт совершает путешествие в Италию. Он побывал в Риме, Флоренции, на Капри и на обратном пути в Россию — в Афинах и Константинополе. Творчество В. достигает в эти годы высшей точки расцвета. Он живет многогранной жизнью, обильной и внешними впечатлениями и внутренними переживаниями. Он любит и любим. Его окружают успех и признание. Он, так сказать, «пьёт из чаши бытия», со свойственной ему манерой, — жадными, глубокими глотками.
Весь этот мир новых ощущений раскрывается В. в сборнике стихов «Сверкающие миги», посвящённом спутнице поэта по заграничному путешествию, артистке оперетты, гастролировавшей в Костроме, г-же В. Книга «Сверкающие миги» получила одобрение в столичной прессе. Критика подчёркивала рост мастерства поэта, углубление его философских взглядов, возмужанье духа. Теперь поэт предстаёт перед нами не только выразителем стихийных сил, но певцом интеллектуальных раздумий, наследником и обладателем многих культур. Подчас его стихи теряют даже прежнюю легкость, обретают «державинскую тяжеловесность», наполняются сложными образами, метафорами, гиперболами. Только постепенно раскрывается их величавый смысл, их внутренняя музыкальность. Таково его известное стихотворение «Когда не звали», относительно смысла и значения которого в критике существуют самые различные толкования. Нам представляется бесспорным, однако, что именно здесь В. дал своё эстетическое credo: искусство обладает особыми закономерностями, его звезда течет собственным путём, или, проще говоря, судьба поэта, являющегося в мир в виде неизвестно откуда взявшегося, стремительно несущегося метеорита, обладает трансцендентальной сущностью, лишь отчасти выявляющейся в соединении его лучей с ограниченным пространством жизненной сферы. Таковы же и законы, управляющие любовью. Приводим эти строфы целиком:
| Когда не звали — Капри, Кострома ли, — Везде одно... И жизнь, как сон, бежит, И сон, как жизнь, бежит метеорит, Что Чацким в «Горе от ума» назвали, Летит насквозь... А занавес шумит. Пускай райка безумствует синклит, В орхестре хор появится едва ли: Звезда искусства всходит в свой зенит. Когда не звали. Мохнатых звёзд созвездие горит, Зовёт, манит из неизвестной дали... Пусть мрамор плеч заветный мех хранит, Чтоб красоты их люди не видали, Звезда взойдёт! Приди ж в мой тёмный скит, Когда не звали! |
Критики часто сопоставляли строки этого стихотворения с произведениями Вяч. Иванова и Вал. Брюсова. Нам эта близость представляется выражением однородного мировосприятия. Говорить здесь о влиянии было бы, по нашему мнению, неправомерно, а о подражании — просто нелепо: самобытность В. слишком очевидна.
Говоря о самобытности В., невольно вспоминаешь его многочисленные стихи, обращенные к родному городу. А многие ли поэты, достигнув славы, сохраняли эту трогательную привязанность к отеческому краю? Как лирично звучат, например, эти строки, написанные в столице:
| И я узнал просторы площадей, Гул людных улиц, острова, балеты, Сверканье электрических огней И сумрак светлых северных ночей, За кружевом оград — теченье Леты... Но сердце оставалось в Костроме; Ему всегда звучали те же речи, В гостях, театрах, на балах, во сне, Что ты тогда нашептывала мне, Когда, отбросив мех, я обнял плечи. |
Глубокой и оригинальной самобытности В. посвящена специальная глава фундаментального труда профессора Беседкина «Вдохновение и одержимость», где талантливый исследователь на основании тщательного, хотя на наш взгляд и несколько спорного, формального анализа произведений поэта устанавливает (в свою очередь, несколько спорное) положение о «центральном образе поэзии В.», будто бы могущего быть охарактеризованным как «магия меха и плеча».
Вернувшись в Кострому в 1915 г., после очередного пребывания в столицах, поэт издает книгу «Предчувствия», посвящённую артистке оперетты г-же Я. Как бы предвосхищая приближающуюся болезнь, В. пишет мрачные строки о скоропреходящести жизни, о неизвестном будущем. Это ясно чувствуется в стихотворении «Проходит всё»:
| Проходит всё! Несносная помеха — Года и дряхлость! Скоро и закат... В последний раз серебряного меха Дай мне вдохнуть знакомый аромат! А там — в ничто! Морозная дорога... Путь в пустоту... Но память горяча... Пускай опять знакомая тревога Пронзит насквозь, едва коснусь плеча... Не уходи! Повремени немного!.. |
Всё яснее проступают у нашего недавно ещё столь жизнерадостного поэта эсхатологические ноты; он всё чаще говорит о судьбах войны, о неизбежной гибели старой культуры. Наиболее ярко подобный строй мыслей выступает в стихотворении «Трудись и жди»:
| Трудись и жди! Но скоро Настанет страшный час: И короля и вора Настигнет некий глас. Тогда никто не сможет Укрыться, убежать... И царственное ложе И скромная кровать Не скроют от расплаты — Расплата горяча... Твои целую латы В то место у плеча, Что мехом ты любила Порою закрывать... О, тихая могила, Сестра, жена и мать!.. |
В конце 1915 г. В. заболел острым психозом: поэт отказывался от любой одежды, кроме меховой. Более того: он не мог видеть одетых людей. Даже вид носового платка приводил его в ярость. Помещённый в частную клинику, несмотря на заботливый уход, поэт не мог долго вынести неволи. Через полгода его страдания окончились.
Обозревая творчество В. — Ростислава Полынского — в целом, мы видим, что этот талантливый самородок смог, благодаря собственным энергии и дарованию, вырваться из тенёт провинциальной жизни в мир интеллектуальной силы, прочно заняв своё место в блестящем созвездии поэтов-символистов. Он является, так сказать, звездой второй величины. Но в этих пределах творчество В. остается незабываемым.

Римский философ Гальбидий был близким другом Плиния Старшего. Г. считается предшественником Сенеки, в сочинениях которого несомненны прямые заимствования из Г.
Из творений Г. до нашего времени дошли: конец его письма к племяннику (около 20 строк, содержащих моральные увещевания и отказ от уплаты долгов молодого адресата письма) и начало двух приписываемых ему писем к Плинию Старшему.
Г. погиб вместе с последним во время извержения Везувия.
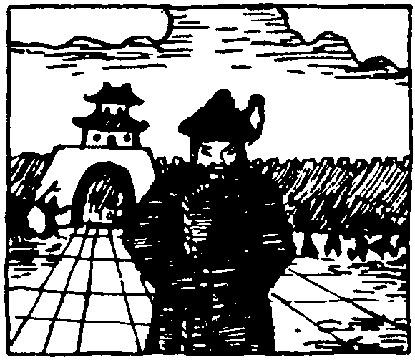
В самом имени Гё Нан Джёна заключен глубокий философский смысл. Тому, кто не пожалел отдать долгие годы изучению многоплановой символики китайских иероглифов, достойной наградой будет высокое искусство — уменье постигать через лаконичные знаки имён судьбу их носителей и то положение, которое эти люди занимали при жизни. Стремясь облегчить европейскому читателю проникновение в эту пучину премудрости, мы счастливы поделиться с ним нашими скромными, чтобы не сказать ничтожными, познаниями и сообщить, что фамилия Гё означает «граница», а прозвище Нан Джён — «хранитель юга».
Г. Н. Д. родился в провинции Шаньдун в семье писца и первоначально носил имя Ту Coy, что значит «Головастик». Когда мальчику исполнилось семь лет, отец, на каждом шагу убеждавшийся в необыкновенных дарованиях сына, отправил его учиться в знаменитый буддийский монастырь Ван Ду. При этом, как бы проникнув внутренним взором в судьбу сына и провидя его будущую славу, он дал ему прозвище Нан Джён.
С примерным трудолюбием и усидчивостью Г.Н.Д. — сначала мальчик, потом юноша и, наконец, зрелый муж — изучал в монастыре науку иероглифов. Не меньше внимания уделял он проникновению в создания великих китайских мыслителей; благоговение перед философией бессмертного Конфуция с каждым годом всё более охватывало его сердце и разум.
Его доброта и углублённое понимание им этики конфуцианства прекрасно отразились в следующем трогательном эпизоде его биографии. Будучи отпускаем своими наставниками время от времени домой, чтобы проведать родителей, Г. Н. Д. не мог не испытывать грусти и сожаления при виде того, как неумолимые годы заставляют сгибаться всё ниже спину его отца и накладывают морщины на лицо матери. Он понимал, что его появление в родном доме раз в два года, сначала подростком, а затем и взрослым человеком, может напомнить его родителям об их собственном возрасте. И, чтобы создать для отца и матери иллюзию остановившегося времени и возвратившейся молодости, любящий сын стал являться к ним каждый раз не в обычной одежде, соответствующей его летам, а в детском платьице, не доходившем ему и до колен. Такова была доброта его сердца.
По окончании 54-летнего курса обучения почтенный кандидат был допущен к государственному экзамену. Этот экзамен превратился в настоящее торжество Г. Н. Д., ибо проявленное им знание всех иероглифов, относящихся до оружейного дела и военного искусства, поразило самых глубокомысленных ученых, составлявших экзаменационный совет. Неудивительно поэтому, что на 61-м году жизни Г. Н. Д. получил назначение на пост «Командующего телохранителями Драконолицего» . Занимая эту должность и пользуясь обширной императорской библиотекой, Г. Н. Д. продолжает свои ученые изыскания и в 1834 г. издает сводный труд «Дипломатия и война» («Бай-гау Та-чан»): это словарь всех иероглифов, обозначающих чужеземцев и чужеземное или же имеющих отношение к оружию и военным действиям. Естественно, что благодаря этому труду, достойному легендарных богатырей времен императора Яо, Г.Н.Д. становится общепризнанным авторитетом в вопросах дипломатии и военных наук. В 1837 г. он возводится в сан мандарина и, как прославленный знаток международных отношений и стратегии, назначается Командующим армией при Наместнике Императора в Гонконге. Вот когда судьба пожелала раскрыть сокровенный смысл его имени «Хранитель юга», ещё раз поучительно указывая всякому, имеющему разум, на великую связь между именем и жизнью человека.
Находясь на посту Командующего, Г. Н. Д. своими деяниями подтверждает мудрость правительственного назначения его на эту Должность: он издает книгу «Танец таинственных иероглифов» («Му-Дзи мей»). Философская идея, которую автор блестяще доказывает в этом труде, заключается в том, что для победы над врагами воины должны прежде всего уметь выражать своими телодвижениями иероглифы, символизирующие грозное оружие, разгром противника и торжество над ним. Мир полон соответствий. Жизнь течет миллионами параллельных русел, которые кажутся отделёнными друг от друга только непросвещённому взору. В действительности поток — един, и русло — одно. Всё связано, подобное вызывается подобным. Действие, совершаемое в уединённом доме, неизбежно отражается в явлениях, происходящих в открытом поле.
Символические телодвижения, имитирующие нанесение врагу сокрушительного удара, не могут не ощутиться этим врагом, хотя бы он и остался в неведении об их действительном источнике.
Учение Г. Н. Д., применяющее к задачам нашего времени вечные истины философии Тао, произвело огромное впечатление на всю мыслящую часть китайского общества. В 1839 г. Гонконгский Наместник пригласил философа-командующего на торжественный приём, устроенный им офицерам английских военных кораблей, стоящих на рейде. Главный смысл церемонии заключался в показе чужеземцам и возможным врагам больших маневров китайских войск. Философским же стержнем маневров являлся «танец воинственных иероглифов» в исполнении всех частей и соединений под руководством самого Командующего. По-видимому, зрелище пляшущего войска действительно устрашило англичан; во всяком случае, в продолжение целой недели после этого Гонконг наслаждался тем же спокойствием, как и долгие века перед тем. Довольный явными плодами церемонии, Наместник послал императору специальное донесение, и Гё Нан Джёну за его подвиг была пожалована земля в окрестностях Пекина размером в 17 му и подарены пять кусков красного шёлка. Правда, в день получения Командующим известия об этом знаке благоволения и высокой оценки его заслуг Гонконг был занят англичанами, но это не имеет принципиального значения. Более чем вероятно, что если бы не «танец воинственных иероглифов», это несчастье произошло бы ещё раньше.
В 1842 г. Г. Н. Д. участвовал в Нанкинских переговорах. Здесь, с целью добиться от англичан отказа от их чрезмерных требований, он не раз собственнолично исполнял новую магическую церемонию, разработанную им на основе указаний древнейших китайских источников: танец дипломатических иероглифов. Здесь во время танца и закончился его земной путь. Не приходится удивляться, что церемония, прерванная этим несчастьем, не смогла оказать желаемого действия на английских дипломатов.
Прямой причиной безвременного ухода из жизни этого разностороннего и энергичного деятеля послужили, очевидно, ветры в печени.
Похоронен был Г. Н. Д. в Нанкине с большим почётом и торжественностью. На его каменной гробнице высечено посмертное имя — «Ай-дзи мей-дзе», что значит «сын духа Танцев и богини Иероглифолюбия».
(*) «Драконолицый» — сына неба, император. (*) 17 му — т.е. немногим больше одного гектара.
(*) Ветры в печени — термин китайской медицины, видимо соответствующий европейскому понятию «камни желчного пузыря».

Сидор Пантелеимонович Генисаретский родился в Сибири, в с. Благовещенском Красноярского уезда, в семье дьякона. Окончив 4-классное училище, служил писарем Губернского Правления, затем помощником делопроизводителя, делопроизводителем, помощником столоначальника, а после учреждения Акцизного Ведомства перешёл на службу в это последнее в чине титулярного советника. Добрый семьянин, человек необычайной скромности, любивший преферанс и некоторые другие незатейливые развлечения в тесном кружке приятелей и питавший неослабевающий интерес к той отрасли отечественного производства, с которой была связана работа в Акцизном Ведомстве, Генисаретский не помышлял ни о лаврах смелого исследователя, ни о славе учёного. Его судьба являет собою поучительный пример и обнадеживающий образец того, как честность и скромность могут быть иной раз вознаграждены таким взлётом фортуны, о каком и мечтать не мог благодушный сын дьякона.
В 80-х годах на неярком фоне провинциального общества г. Красноярска заметно выделялась своеобразная фигура удачливого золотопромышленника Ф. К. Полуярова. Неукротимый темперамент и могучая творческая фантазия натолкнули этого настоящего русского самородка на оригинальное, весьма необычное для того времени увлечение воздухоплавательным спортом. На обширном пустыре вблизи своего великолепного дома, получившего вследствие хлебосольства своего хозяина прозвище «Ноева ковчега», Полуяров устроил нечто вроде примитивного лётного поля, с которого стартовал однажды на аэростате конструкции талантливого инженера-самоучки Алмазова. Полет завершился благополучным приземлением в полусотне верст от Красноярска. Эта удача вдохновила Полуярова на смелый замысел: внеся кое-какие изменения в конструкцию аэростата, совершить на нём полет через Алтайский хребет. Подготовительные работы были вскоре закончены, и в одно воскресное утро в июне 1888 г. должен был состояться старт.
Среди публики, привлечённой необычайным зрелищем и толпившейся вблизи воздушного шара, который слегка покачивался на своих стропах резвыми порывами северного ветра, находился и Г. По-видимому, безобидные удовольствия, которым отдал дань накануне вечером, в субботу, Сидор Пантелеймонович, слегка нарушили обычно свойственный ему трезвый подход к вещам; во всяком случае, в нарушение своего правила — никогда не выдаваться вперёд — он позволил себе протиснуться в первый ряд зрителей и здесь с неосмотрительной громогласностью произнес несколько скептических суждений о перспективах воздухоплавания. Эти замечания были услышаны Полуяровым, уже готовившимся подняться в гондолу аэростата. Разгневанный недоверием к науке, отважный экспериментатор в эту же секунду приподнял дерзкого скептика на воздух и толкнул его в гондолу с раздражённым восклицанием, повторять которое дословно мы считаем неуместным. Но на этот раз судьба не пожелала отнестись с обычною снисходительностью к нетерпеливым выходкам русского мецената: по невыясненным до сих пор причинам шар тотчас же рванулся вверх, последние стропы лопнули, и Г. внезапно очутился совершенно один несущимся в корзине аэростата неизвестно куда и зачем, со скоростью 10 сажен в секунду.
В изложении дальнейших событий мы принуждены руководствоваться единственным имеющимся у нас источником — воспоминаниями Г. «В стране далай-лам», опубликованными в газете «Вестник Красноярского края» в июле 1891 г. К сожалению, неподготовленность нашего соотечественника к подобному путешествию и необычайные обстоятельства самого отбытия его из Красноярска придают его свидетельству о первых сутках полета несколько туманный характер. Драматизм его положения усугублялся тем, что, будучи незнаком с устройством аэростата, он и не подумал принять меры к скорейшему приземлению. Кроме того, отмеченное нами выше недоверие его к научным и техническим новшествам способствовало его твёрдой уверенности в том, что шар будто бы не может продержаться в воздухе больше нескольких минут. Поэтому сначала, спрятавшись на дне гондолы и не решаясь приподнять голову над бортом её, Г. размышлял лишь о том, как и на чём будет он добираться обратно в город после того, как шар опустится. Но когда прошло около получаса, а шар поднялся выше облаков, Г. рискнул глянуть вниз и по сторонам. Внизу простиралась покрытая лесом волнообразная равнина, а навстречу, с юга, приближались какие-то горы. Поэтому нам не кажется странным, что прежняя мысль, тревожившая воздухоплавателя, сменилась новой: беспокойством о том, успеет ли он вернуться в Красноярск к 7 ч. утра в понедельник, т. е. к началу служебного дня в Акцизном Управлении. Однако весьма скоро сделалось ясно, что высокому чувству служебного долга нашего титулярного советника готовится новый удар. Не ощущая непосредственной силы ветра, т.к. шар нёсся с его скоростью, Г. видел по изменениям ландшафта, что эта скорость огромна. Точно по аэродинамической трубе, аэростат несло между горных вершин, над перевалами, где несколько раз он едва не задел за скалы, а часа через два перед жертвою жестоких шуток судьбы открылась безбрежная даль пустыни. Земля ушла глубоко вниз. Однажды среди пустынных пространств заголубели изгибы большой реки; можно думать, что это была р. Тарим, хотя Г. почему-то утверждает в своих воспоминаниях, будто бы он пролетел над Нилом.
Неотчетливость географической концепции нашего путешественника отразилась и в том, что снежные горы Куэнь-Луня, которые он благополучно, хотя и с ужасающим риском, миновал уже в вечерних сумерках, были приняты им за Кавказский хребет. Вообще, нетрудно вообразить душевное состояние воздухоплавателя, если учесть рисовавшееся ему страшное будущее: быть выброшенным где-либо в дикой местности, откуда придётся добираться домой пешком через пустыню, с тем, чтобы в конце концов стать перед лицом грозного начальника, требующего объяснения дерзкой самовольной отлучки. Не могла способствовать подъёму настроения и перспектива объяснения с Полуяровым. Зато физические испытания, выпавшие на его долю, Г. выносил с беспримерным мужеством. Ни тени ропота или возмущения не чувствуется в его безыскусственном рассказе о полете.
Был ужасный холод. В шаре была шуба и одеяло, и я их одел. Провизии мне хватило. Водка тоже была в шаре, и я не замёрз.
Но, по-видимому, живительный напиток помог игрушке воздушной стихии не только в физическом, а и в психологическом отношении: лаконичность дальнейших сообщений Г. заставляет нас предположить, что смилостивившаяся над ним судьба послала ему долгий, спокойный, подкрепляющий сон.
Из состояния забытья Г. был выведен сильным толчком, за которым последовали второй и третий. Плохо ориентируясь спросонок, путешественник успел лишь сообразить, что шар приземляется и что солнце стоит высоко на небе. В ту же минуту гондолу тряхнуло ещё энергичнее, воздухоплаватель был выброшен на поросший травою склон горы, а освободившийся от его тяжести шар исчез в неизвестном направлении. На некотором расстоянии виднелась большая отара овец, а ещё дальше — селение обитателей этого загадочного края. Оттуда уже спешила группа людей. Но, подбежав к своему неожиданному гостю, эти дети природы, вместо ожидаемого приветствия, высунули языки, делая при этом оригинальные, но маловразумительные движения кистью правой руки, и в особенности большим пальцем. В свете современной науки можно с уверенностью сказать, что Г. был первым европейским исследователем, описавшим тибетский способ приветствия, хотя и не проникнув в его смысл. «Одно слово: язычники!» — с мягким юмором резюмирует он это наблюдение. С чисто русскою сметкою он подметил также, что попытка его заговорить по-русски привела к тому, что вся группа туземцев поверглась перед ним ниц: очевидно, его принимали за сверхъестественное существо, явившееся с неба. Таким образом, можно было не сомневаться, что перед ним люди, чуждые христианской цивилизации. Чрезвычайно любопытно и лингвистическое наблюдение, сделанное Г-м: он решительно утверждает, что туземцы, простираясь перед ним, выкрикивали: «Митрея! Митрея!» Надо думать, так прозвучало русскому уху слово «Майтрэйя».
Невозможность вступить в человеческое общение с туземцами чрезвычайно упростила научно-исследовательские задачи русского культуртрегера. Скупыми, но яркими штрихами живописует он свои дальнейшие приключения. Торжественно приведённый в деревню, он был водворён в помещение храма подле изваяния Будды. Возжигание благовонных палочек и монотонное пенье чередовались с трапезами, о которых Г. сообщает драгоценные подробности. «Они без конца заставляли меня пить крепкий чай с коровьим маслом: Это настоящее пойло. На крёщеной Руси такого не стал бы пить последний зимогор».
За эти дни, безвыходно проведённые в ламаистской кумирне, Г. отдохнул от перенесённых мытарств, и это дало ему силы мужественно встретить новый этап путешествия, когда набожные тибетцы решили отправить небесного гостя для выяснения личности в духовный и административный центр своей феократии. Предоставим слово самому путешественнику.
«Меня посадили на рогатое животное вроде быка. Меня сопровождало 12 туземцев. Главным был далай-лама.Мы ехали долго через горы. Некоторые горы были высотой в 20 вёрст. Если бы меня бы не закутывали бы в мех целиком, я бы замерз. Наконец мы спустились куда-то. Стало тепло. Мы останавливались в юртах кочевников или в языческих монастырях. Народ добродушный, только все они очень глупы. По-русски не знает ни один далай-лама. Наконец меня привезли куда надо. Это был город и дворец в десять этажей».
Итак, наш исследователь оказался первым европейцем, проникшим, ценой всевозможных лишений и риска собственной жизнью, в тибетскую столицу, где его личность очутилась в центре внимания высшего ламаистского духовенства. Целомудренная, скупая литературная манера Г. не позволяет нам заключить ничего определённого ни о том, кто именно из лхасских сановников и какими способами пытался выяснить его происхождение, ни о той обстановке, которою Г. был окружён в таинственном городе. Слишком скромное представление о собственных возможностях помешало исследователю проявить свойственную ему наблюдательность, способность к глубокому анализу и широкому синтезу. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что в его воспоминаниях мы не находим никаких сведений о внешнем виде Лхассы и знаменитого дворца Поталы, равно как и об одежде, обрядах, быте, ремёслах, художественных изделиях, утвари и т.п. Так или иначе, после двухмесячного пребывания в Лхассе в условиях почётного заключения Г. был снова посажен на яка и, на этот раз уже без особых церемоний, перевезен торговым караваном в Сринагар — главный город индийской провинции Кашмир. Надо полагать, лхасские власти убедились в земном происхождении своего гостя и, с грубоватостью людей, чуждых гуманной цивилизации нашего века, выпроводили его за границу. Только в Бомбее встретился наконец Г. с первым человеком, говорившим по-русски: с русским консулом. Здесь наконец он узнал, что исследованная им страна называется Тибетом и до этого времени оставалась недоступной для европейцев.
Путевые воспоминания Г. об Индии представляют, естественно, меньше интереса, чем его талантливые зарисовки Тибета. Если мы припомним описание путешествия по Индии великого русского исследователя XV века Афанасия Никитина, фактически открывшего эту страну для учёного мира, мы убедимся, что данные, сообщаемые об Индии Г., уже нашли своё место в книге его гениального предшественника.
Зато бесконечную ценность для историка русского быта и нравов представляют страницы из воспоминаний, посвящённые возвращению в родной Красноярск. Безыскусственно, просто, но со множеством интереснейших подробностей повествуют они о восторженном приёме, устроенном герою воздухоплавания красноярским обществом; о том, как Полуяров, считавший Сидора Пантелеймоновича невинной жертвой своей необузданной вспышки, обнял его, рыдая, и осчастливил ценным подарком — бронзовыми настольными часами в форме аэростата, каждый час наигрывавшими «Во саду ли, в огороде»; о том, как начальник Акцизного Управления, вместо того чтобы распечь подчинённого за самовольную отлучку, принял его с благосклонною шуткой и целых полчаса расспрашивал о подробностях путешествия; о том, наконец, какие обеды устраивались красноярской общественностью. Если бы погибли все документы, по которым мы судим о видах и родах спиртных напитков и праздничных кушаний, употреблявшихся в Сибири в конце XIX столетия, записок Г. было бы достаточно, чтобы восполнить эту роковую утрату.
Публикация его труда «В стране далай-лам» вызвала живой отклик не только в отечественной, но и в заграничной, особенно английской печати. К сожалению, мы не имеем права обойти молчанием некоторых выступлений, прозвучавших неприятным диссонансом среди голосов признанных учёных, указывавших на огромное значение подвига Г. для географической науки. В Англии нашёлся даже некий Джемс Кларк, не постеснявшийся иронизировать над самоотверженным исследователем в том смысле, что признание Г. первым европейским аэронавтом, посетившим Лхассу, не имеет будто бы под собой почвы ввиду того, что он уроженец Сибири. Рассужденье столь же смешное, сколь и некорректное! Как будто нельзя родиться в Сибири и оставаться больше европейцем, чем заносчивый м-р Кларк, всю жизнь свою прозябавший, вероятно, в каком-нибудь английском захолустье.
Тибетским путешествием заканчивается период жизни Г., имевший значение для мировой науки. Возвратившись к служебной деятельности в Акцизном Ведомстве, путешественник, видимо, окончательно убедился в том, что никакие приключения в экзотических странах, сколь бы ярки они ни были, не могут идти в сравнение с радостями скромного существования в лоне любящей семьи и круга приятелей, объединённых общими вкусами и интересами. Мирно и незаметно прожил Г. остаток своих дней.
На незатейливом памятнике, водружённом над его могилою безутешной вдовой, можно и теперь ещё разобрать трогательные строки:
«Листья, ветры, не шумите, Моего мужа не будите! Пусть спит, не зная ни тревоги, ни муки, А памятник сей поставили супруга, дети и внуки!» |
(*) В этом, думается нам, сказалось поблёкшее с годами воспоминание об уроках закона Божия, из которых Генисаретский вынес, между прочим, несколько поспешное заключение о том, что Нил будто бы единственная в мире река, способная протекать через пустыню. (*) Как было известно, впрочем, ещё до Г., Майтрэйя есть одно из лиц ламаистского пантеона, Будда грядущего мирового периода, в настоящее время проходящий подготовительный этап бодисаттства. (*) Исправим маленькую неточность: коровьего масла в Тибете не употребляют за отсутствием коров, а заменяют его маслом из молока яков. (*) Зимогор —праздношатающийся, бродяга, люмпен-пролетарий (сибирский диалект).
(*) Г. упорно называет далай-ламами всех вообще представителей тибетского духовенства.

Роберт Томас Джонс родился в семье клерка в Портсмуте — одном из крупных портовых городов Англии. Через два года после рождения Роберта отец его умер и семья, состоявшая из вдовы и трёх детей, вскоре же впала в крайнюю степень бедности. Детские воспоминания Д. были безрадостны. В тех немногих случаях, когда он делился ими, он, со слезами на глазах, рассказывал о том, как его мать, перебиваясь разной случайной работой, героически боролась с нуждой, как умерли от какой-то инфекции его старшие брат и сестра, истощённые постоянным недоеданьем, как он, оставшись единственным ребёнком, рос среди соседей, таких же бедняков, как и его мать. Мальчик рано развивался и был на редкость смышлёным и любознательным. В приходской школе для бедных на его способности обратил внимание старик учитель, сумевший добиться для мальчика материальной помощи попечителей школы. Эта, хотя и мизерная, помощь дала ему возможность после окончания приходской школы получить среднее образование и даже поступить в университет в Лидсе. Получив медицинское образование, Д. возвращается в родной город и поступает на муниципальную службу в качестве врача для бедных.
Бескорыстный идеализм молодого врача, искреннее понимание нужд бедняков, всегдашняя готовность помочь им не только своими профессиональными знаниями и добрым словом, но и деньгами из своего скудного жалованья быстро завоевали ему самую лучшую репутацию среди его многочисленных пациентов.
Трогательная забота о матери, с которой Д. поселился по возвращении на родину, стремление всячески скрасить её отягощённую болезнями и скорбными воспоминаниями старость без остатка заполняли всё время, которое оставалось у него свободным от работы, и составляли всю его личную жизнь. К несчастью, мать Д. не смогла долго пользоваться скромным уютом и покоем, созданным для неё любящим сыном. Старушка заболела раком желудка — болезнью, диагноз которой в то время был, в сущности, равносилен смертному приговору для больного. Несколько месяцев больная мужественно старалась не выдавать сыну степень своих страданий. Однако от внимательных глаз любящего человека, умудрённого к тому же опытом и знаниями врача, этих мук не скроешь, и молодой человек всё это время терзался сознанием своего бессилия и бесплодности всех попыток хоть чем-либо скрасить последние дни горячо любимой матери. Наступила роковая развязка, и Д. остался один, без всякой личной жизни, с душой, надорванной многими неделями мучительного переживания страданий самого близкого ему человека.
Стараясь заполнить возникшую в его существовании брешь и отделаться от тягостных мыслей о неправомерности и незаслуженности мучений, завершивших и без того тяжёлую и скорбную жизнь его матери, Д. с ещё большим рвением, чем прежде, отдался своей врачебной работе среди бедняков. Каждодневные сцены вопиющей нужды и неисчислимые страдания, свидетелем которых он являлся, не могли, однако, послужить действенным средством для того, чтобы вызвать благотворные сдвиги в общем направлении его мыслей.
Он всё больше и больше впадает в отчаяние, перерастающее в общее пессимистическое мироощущение. Работа врача начинает казаться ему жалким паллиативом, не устраняющим подлинных причин страданий. Ещё меньше может помочь в облегчении людского горя и благотворительность в её самых разнообразных формах. Нет выхода, по мнению Д., и в каких-либо государственных мероприятиях и даже в радикальном социальном переустройстве жизни. Он продолжает свою работу просто потому, что нужно же ведь что-то делать, но каждый день несёт ему новые и новые разочарования.
Находясь постоянно в таком настроении безысходности и бесполезности жизни, Д. наталкивается в одном из медицинских журналов на отголоски дискуссии о так называемой эйтаназии — праве врача на сокращение мучений безнадёжного больного, на ускорение неизбежного конца, на вызывание безболезненной агонии путем впрыскивания смертельной дозы какого-либо наркотического средства. Эта проблема, одна из старейших и вместе с тем всегда волнующих проблем врачебной этики — как мощный магнит притягивает к себе все мысли Д. Как человек, он готов согласиться с тем, что многие из его пациентов, да и его собственная мать, переносили, будучи в безнадёжном состоянии, страдания, которые из чувства простого сострадания хотелось бы устранить, чтобы сделать их расставание с жизнью не отягощённым хотя бы этими ненужными физическими муками.
Но как примирить это инстинктивное чувство с долгом врача? Разве всегда можно быть абсолютно уверенным в непогрешимости твоего заключения о полном отсутствии шансов на выздоровление? Как решиться на то, чтобы вместо борца за жизнь человека стать пособником смерти, пусть даже желанной для самого больного? Можно ли посягнуть на жизнь человека даже при этом обстоятельстве?
Д. становится ясно, что весь вопрос об эйтаназии является только частью гораздо более значительной этической проблемы — имеет ли право человек при каких-либо обстоятельствах распоряжаться жизнью другого? Практика жизни давно делает в этом вопросе многочисленные оговорки, разные для разных времен и для разного уклада жизни. Но не из этих софизмов, временных, преходящих, нужно исходить при решении дела. Необходимо попытаться найти более общие, более прочные, незыблемые этические обоснования для того, чтобы покончить с этим мучительным сомнением, которое хоть раз в жизни возникало перед каждым настоящим врачом.
Д. лихорадочно уходит в поиски таких обоснований. Он перечитывает массу философских и религиозных сочинений. Он убеждается, что философские системы, построенные на логических доводах разума, мало что добавляют к тому, что он передумал сам по волнующему его вопросу. Обращение к изучению различных религиозных систем, признающих абсолютную ценность души человека, покорность высшим силам, безусловную греховность убийства и самоубийства, как противоречащих воле Верховного начала, с одной стороны, показало Д. как будто бы единодушное осуждение большинством религий насильственного лишения жизни при любых обстоятельствах. С другой стороны, однако, Д. кажется, что во всех религиях есть и какая-то явная непоследовательность в основном вопросе о соотношении ценности земной и потусторонней жизни. Он начинает считать вопрос об эйтаназии гораздо менее значительным, чем это ему казалось сначала. Его общее мироощущение влечёт его к более глубокому пересмотру основного представления о жизни земной и жизни вечной. Вера в последнюю, бессознательно хранившаяся в нём с детских лет, окрепла теперь под влиянием перенесённых им потрясений и глубокого изучения религиозной литературы.
Д. всё пристальнее задумывается над этими краеугольными проблемами. В нём зреют новые убеждения. Он решается, наконец, изложить их систематически и в течение двух лет пишет книгу, ставшую теоретической основой «акцелерантизма».
Книга Д. — «Активная религия» — не отличается плавностью и красотой стиля и логической убедительностью, которыми так любят щеголять многие современные богословы. Нет в ней ссылок на разнообразные открытия современной науки, обнаруживающих глубину и разносторонность эрудиции автора и показывающих стремление доказать, что все эти открытия не только не противоречат учениям религии, но даже подтверждают их. С первых же страниц книги мы видим, что её написал не профессионал-теолог, не философ-мистик, а человек, пришедший к своим мыслям только в результате огромной внутренней работы, бессонных ночей и неотступных мучительных раздумий. Именно поэтому книга Д. поражает даже тех, кто не может согласиться с его положениями, своей страстностью, искренностью, взволнованностью и убеждённостью.
Попытаемся сформулировать в сжатой форме основные положения учения Д.
1. Все религии, признающие загробную жизнь, считают её вечной, высшей, истинной жизнью, земную же жизнь — лишь временным этапом на пути к этому вечному существованию.
2. В земной жизни дух человека отягощён плотской оболочкой.
3. Потребность духа — одна: стремиться к вечной истинной жизни. Потребности плоти — многообразны. Они вступают в постоянное противоречие с потребностью духа, вводят человека в соблазн, заставляют его совершать вольные и невольные прегрешения.
4. Основной непоследовательностью всех признающих загробную жизнь религий является призыв к пассивному ожиданию высшей формы жизни — вечного блаженства.
5. Истинно верующий человек должен действительно стремиться к скорейшему переходу к истинной жизни, не отягощенной веригами плоти.
6. Аскетизм, ограничение плоти являются лишь паллиативом, основанным на упомянутой выше (4) основной философско-религиозной непоследовательности.
7. Истинная действенная религия требует сознательного уничтожения плотской оболочки для ускорения перехода к вечному блаженству. (От слова «ускорение» — по-английски «acceleration» — произошло и название секты, основанной Д.)
8. В чем более раннем возрасте совершается активный переход к вечной жизни, тем скорее душа присоединится к сонму блаженных, ибо ей меньше придётся искупать прегрешений, в которые вовлекала её плоть.
9. Равным образом и по тем же основаниям наиболее праведные взрослые люди заслуживают скорейшего перехода к вечной жизни.
10. Истинно верующие люди не могут ограничиваться личным спасением. Их долг — помочь созревшим, но по своему смирению считающим себя ещё не достойными вечной жизни, избавиться от их телесной оболочки.
11. Религия действенного преодоления земной жизни разрешает все сложнейшие вопросы личной и социальной жизни человека.
Выпустив книгу, Д. решает отдать все свои силы распространению своего учения. Не ограничиваясь пропагандированием своих взглядов через печать, он считает своим долгом обратиться к современникам и с живым словом. Отказавшись от своей работы в Портсмуте, Д. перебирается в Лондон и ежедневно является в Гайд-парк. Здесь, заплатив ничтожную символическую плату за право занять одну из кафедр, он с её высоты говорит о своём учении. Сначала около него останавливаются только немногие праздные любопытствующие, но постепенно к обычному часу выступлений Д. начинает собираться всё более и более постоянная и вместе с тем более многочисленная аудитория. Продажа книги, которую Д. аккуратно укладывает горкой рядом со своей трибуной, даёт ему скромные средства на существование.
Приведем один характерный штрих из этого периода жизни Д. Один из его случайных слушателей, присутствовавший на проповеди Д. и ознакомившийся с его книгой, исполнился негодованием и через одну газету обратил внимание прокурорского надзора на ученье Д., обвиняя его в пропаганде самоубийства или преднамеренного убийства. Д. был вызван в суд и после детального обсуждения дела был оправдан на том основании, что, как говорится в приговоре: «в инкриминируемой ему книге ни разу не встречается ни слова «самоубийство», ни «убийство», ни тем паче прямых призывов к совершению первого или последнего».
По самой своей сути ученье Д. вряд ли могло рассчитывать на особенно широкое распространение, но всё же вокруг основателя новой секты скоро создался довольно многочисленный кружок. Наиболее рьяные последователи взглядов Д. стали с течением времени настоящими апостолами нового учения, несшими весть о нём далеко за пределы Лондона. Всё, казалось бы, благоприятствовало постепенному распространению и углублению дела, которому посвятил себя Д. Но, как показало время, ученье Д. нашло в самом себе погибель для своего основателя.
Один из наиболее близких и последовательных учеников Д., некто Варне, постоянно радовавший своего учителя глубоким и тонким пониманием всех деталей созданной Д. религиозной системы, однажды обратился к нему с просьбой назначить день и час для откровенной и уединённой беседы. Д, был несколько удивлён просьбой, т. к. он виделся и разговаривал с Барнсом буквально каждый день. Однако Барнс настоятельно просил выделить специальное время для предстоящего разговора, «ввиду его совершенно особой значительности для обоих собеседников», и обеспечить полное уединение.
Через день — 21 июня 1930 г. — этот знаменательный разговор состоялся. Мы излагаем его в соответствии с данным Барнсом под присягой отчётом в надлежащей авторитетной инстанции.
Барнс начал с того, что учение Д. полностью овладело всем его существом и что у Д. нет учеников, которые больше Барнса были бы верны этим взглядам, искреннее Барнса любили и уважали бы учителя. Растроганный Д. в самых прочувствованных выражениях благодарил Барнса и сказал, что для него Барнс всегда был самым дорогим и самым любимым учеником и что он всегда смотрел на него как на самого достойного продолжателя его дела.
— Я очень рад, что вы так высоко расцениваете мои скромные способности, — сказал Барнс. — Но именно эта моя безграничная преданность вам и вашему учению и ваше лестное доверие ко мне налагают на меня совершенно особенную ответственность и совершенно исключительные обязанности. Я считаю вас истинным совершенством, человеком, стоящим на таком высоком моральном уровне, достигнуть которого за всё время существования человечества могли только немногие избранники Божии.
— Что вы, Барнс, что вы! Я самый обыкновенный человек, а если во мне и есть какие-либо черты, которые вам кажутся хорошими, то этим я обязан в конце концов не себе, а только милости Божьей, — прервал своего ученика смущённый Д.
— Ваша исключительная скромность, дорогой учитель, давно известна нам и лишь подтверждает то, что я только что сказал о вас. Я считаю это положение ясным и не требующим доказательств. Исходя из этого бесспорного тезиса, я считаю своим долгом перед вами со всей определенностью заявить вам, что вы вполне созрели для того, чтобы в соответствии с духом и смыслом вашего учения перейти с нашей низшей ступени жизни в жизнь высшую, вечную. Это, помимо всего прочего, и ваш личный долг по отношению к провозглашённой вами новой истине: вы должны стать для всех нас примером последовательного проведения учения...
— Дорогой Барнс, но я, во-первых, не чувствую себя достаточно совершенным для этого решающего шага. Во мне ещё много неизжитой земной суетности. В моей душе ещё много...
— Нет! Нет! Нам лучше судить об этом. Ваша чрезмерная скромность лишает вас должного масштаба для оценки ваших личных моральных качеств. Я уже сказал, что с этой стороны вопрос ясен и не нуждается ни в каких доказательствах.
— Но моё учение? Оно только что делает первые успехи! Я не могу бросить дело на половине! Это мой долг перед человечеством!
— Доктор Джонс! Вы уже немало потрудились на этом поприще: не забудьте, что ваша книга вышла в 1899 году, а сейчас мы живем уже в 1930! Кроме того, вы не раз говорили и только сегодня подтвердили это ещё раз, что вы можете умереть спокойно, зная, что ваше дело останется в надёжных руках. Вы, в частности, почтили меня и сегодня столь лестным для меня именем вашего самого верного и самого любимого ученика, последователя и продолжателя. Это и даёт мне моральное право ставить перед вами вопрос о необходимости для провозвестника новой истины стать образцом последовательного доведения её до конечного вывода. Я полагаю, что сейчас нам следует говорить только о практической стороне дела! Что вы предпочитаете для осуществления перехода к вечному блаженству: стакан доброго портвейна с унцией хлорал-гидрата, шприц с более чем надежной дозой морфия или револьвер? Я всё это захватил с собой... О, дорогой доктор Джонс, учитель! Увенчайте дело вашей жизни! Заставьте посрамлённо замолчать тех, которые уже давно шипят о расхождении между словом и делом в вашей жизни, о том, что вы, подобно Сенеке, проповедуете то, что не делаете и не собираетесь делать сами!..
— Барнс, я запрещаю вам говорить со мной таким образом. Ведь мне же, в конце концов, лучше судить о том, когда я созрею для ухода из этой жизни... Не внешние причины, не желание посрамить кого-либо из моих злостных критиков, а глубокое внутреннее убеждение в своевременности этого шага будет являться основой для моего решения. Моя жизнь, как главы нового учения, не принадлежит только мне...
— Доктор Джонс! Этот довод мы также уже разобрали и отвергли. Для судьбы вашего учения ваш уход сейчас будет более полезным, чем продолжение вашей деятельности при усиливающемся ехидном подсмеивании ваших врагов! Я не могу не видеть в ваших словах лишь проявление слабости и колебания. Я боюсь, что ваша дальнейшая жизнь при таком настроении повлечет вас к новым отступлениям от истинного пути. Я чувствую, что мой долг истинно верующего человека повелевает мне руководствоваться тем тезисом вашего исповедания веры, который гласит: истинно верующие люди не могут ограничиваться личным спасением. Их долг — помочь слабым и колеблющимся — да, да! Вы принадлежите к таким! — избавиться от их телесной оболочки. Молитесь, да просветит вас Господь! — и Барнс торжественным движением поднял руку с браунингом.
— На помощь! На помощь! Спасите! — закричал Джонс и ринулся к двери.
Барнс, вряд ли до этой минуты когда-либо державший в своих руках огнестрельное оружие, вместо того, чтобы стрелять, кинулся вдогонку, старательно продолжая вытягивать вперёд руку с револьвером. Джонс с неожиданной для его возраста скоростью вылетел на лестницу и бросился вниз. Барнс, грузный и неповоротливый мужчина, безнадежно отстал на поворотах лестницы. Он услышал, как громко хлопнула входная дверь подъезда. Тотчас же вслед за этим раздался истерический гудок автомобиля и короткий, быстро захлебнувшийся крик. Барнс вздрогнул, выронил револьвер, нагнулся и, спрятав его в карман, запыхавшись, выскочил на улицу. Прямо против подъезда на мостовой стоял грузовой автомобиль. У его передних колес шофер, опустившись на колени, в ужасе рассматривал измятые останки бренной телесной оболочки доктора Джонса, неожиданно нашедшего свой путь к вечной жизни.
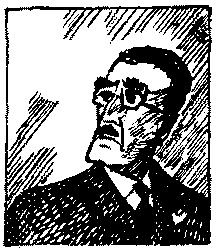
Пьер Жанэн родился в Льеже в семье промышленника. Высшее образование получил в Политехнической школе в Париже, которую блестяще окончил в 1911 г.
Практическую деятельность начал в качестве инженера-конструктора паровозостроительных заводов Бельгийского Анонимного Общества в городе Берье.
Курьерские паровозы конструкции Ж. получили широкое распространение во многих странах Европы и далеко за пределами Европейского континента. Многие усовершенствования, предложенные Ж., были повсеместно приняты паровозостроительной промышленностью.
Помимо текущей конструкторской деятельности и работы по управлению заводами в Берье (с 1923 г.), Ж. с гениальной настойчивостью занимался проблемой увеличения скорости поездов. Специалист, буквально влюблённый в железнодорожное дело, Ж. чуть ли не огорчался успехами смежных отраслей техники — развитием автотранспорта и воздушных сообщений, доказывал в многочисленных статьях и докладах неисчерпаемые возможности прогресса железных дорог. Ж. в особенности подчёркивал безопасность этого рода передвижений по сравнению со всеми остальными видами транспорта.
В 1924 г. Ж. начал испытания построенного им сверхскоростного паровоза, получившего символическое название «Желание» (ил. № 1).
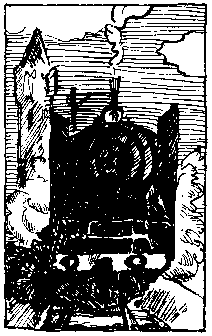 Иллюстрация № 1 |
Этот паровоз 2 января 1925 г. установил абсолютный мировой рекорд быстроты, достигнув скорости 178,3 км/ч (ил. № 2).
Всесторонне изучая особенности эксплуатации железнодорожного полотна в условиях сверхскоростных передвижений, 12 марта 1925 г. Ж. доверил управление локомотивом «Желание» двум ближайшим своим ассистентам. На этот раз паровоз побил собственный рекорд, показав скорость 182 км/ч, но в тот же день погиб в результате взрыва котла (ил. № 3) — катастрофа, стоившая жизни не только водителям локомотива, но и нескольким окрестным жителям.
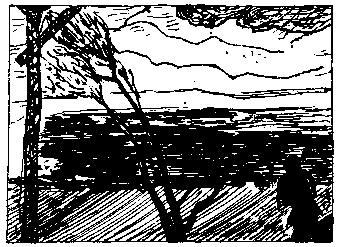 Иллюстрация № 2 |
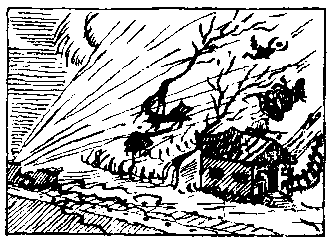 Иллюстрация № 3 |
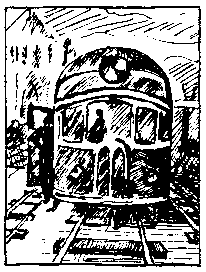 Иллюстрация № 4 |
Эти серьёзные неприятности, однако, не поколебали неутомимого изобретателя. В 1929 г. Ж. создает дизельный локомотив «Мысль» (ил. № 4), который 15 августа показал скорость 194 км/ч, поставив новый мировой рекорд.
Ж. продолжал совершенствовать машину, и 3 сентября «Мысль» оправдала своё название быстротою движения, достигнув на перегоне Берье — Монт-Ориоль скорости 232,5 км/ч (ил. № 5).
К сожалению, памятная всем катастрофа 16 сентября, когда «Мысль», на всем ходу слетев с полотна, врезалась в станцию Пон-Сели, положила конец машине, обещавшей новые рекорды (ил. № 6).
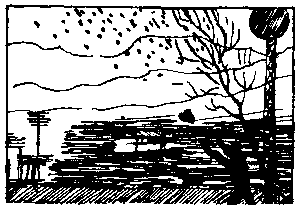 Иллюстрация № 5 |
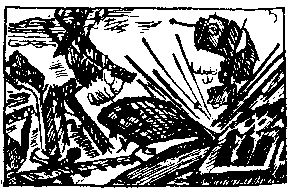 Иллюстрация № 6 |
Невзирая на враждебные выступления своих противников, требовавших запрещения опасных экспериментов, утверждавших, что наш изобретатель будто бы пренебрегает жизнями своих сотрудников и безопасностью общества, Ж. приступил к созданию новой машины, положив на этот раз в основу движения самый современный принцип — принцип ракетного двигателя, усердно разрабатывавшийся и другими выдающимися конструкторами в эти годы — Валье и Оппелем, Цандером, Годдардом и другими.
В течение нескольких лет широкие слои любителей техники, заинтригованные прежними достижениями Ж. и уверенные в настойчивости гениального конструктора, ждали результатов его новых исканий.
Наконец, в 1937 г. Ж. продемонстрировал новую машину — мощный ракетный локомотив «Мечта».
«Учитывая печальные опыты, я не только не доверяю никому управление этим моим новым детищем, но буду водить его один, без помощников, во всяком случае, до тех пор, пока всесторонние испытания не докажут полную безопасность эксплуатации ракетного локомотива моей конструкции», — сказал Ж., открывая испытания «Мечты».
Главный интерес представлял собою назначенный на 12 апреля 1938 г. пробег «Мечты» на 75 км (от Берье до Седана).
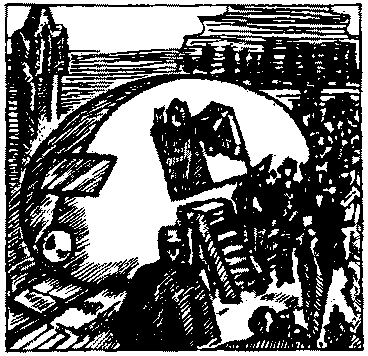 Иллюстрация № 7 |
При огромном стечении народа, после многочисленных бурных оваций и приветственных речей министров путей сообщения Бельгии, Франции, Англии и Нидерландов, Ж. занял место в своем элегантном светлосером каплеобразном локомотиве (ил. № 7). Раздался гудок, и «Мечта» исчезла из глаз, окутанная облаками дыма.
В первые секунды движения дым мешал фото— и киносъемкам; через несколько же секунд скорость увеличилась настолько, что снять локомотив было уже невозможно.
Рокот мотора замирал вдали... Каково же было всеобщее удивление, когда из Седана сообщили, что «Мечта» не появлялась!..
Бесчисленные наблюдатели на всем протяжении пути ничего сообщить не могли; они почти оглохли от грохота, их буквально засыпало песком, сорванным с полотна, благодаря необычайной скорости локомотива. Все они рассказывали о неожиданном ударе воздушной струи, о последующем рёве мотора и вихре песка, земли и пыли, который многих сбил с ног. Когда дым рассеялся, глазам очевидцев представились оголённые рельсы и шпалы: балласт был сдут локомотивом. «Мечта» исчезла совершенно так же, как это — увы! — слишком часто бывает с мечтою в жизни.
Компетентная комиссия скоро установила истину: измерительные приборы показали, что локомотив, развив неожиданную и, казалось, совершенно невероятную скорость (около 9200 м в секунду) и, так сказать, использовав в качестве направляющей поверхности подъём железнодорожного полотна в районе Монт-Ориоль (1,5 км над уровнем моря), оторвался от земной поверхности и вылетел далеко за пределы атмосферы. Соответствующие вычисления тогда же заставили предположить, что «Мечта» превратилась в своеобразного искусственного спутника земли.
Попытки врагов великого изобретателя запятнать его память, имея в виду необыкновенную судьбу «Мечты», подверглись суровому осуждению передовых людей всего мира. Да, «Мечта» исчезла вместе во своим создателем. Но она достигла рекорда, который надолго останется недосягаемым, будя новые достижения технической мысли. Подвиг Ж. открыл ослепительные и в то же время практические перспективы установления новых средств движения на новых путях — в безмерном просторе вселенной...
Изучение скорости движения локомотива и тщательное исследование угла возвышения трассы явились основанием для астрономов рассчитать орбиту нового земного спутника. И действительно, в 1939 г. две обсерватории — Маунт-Вильсоновская и Кэптаунская — установили наличие нового астероида — бесспорное доказательство реальности вечного маршрута «Мечты».
В немом пространстве, в бесконечной холодной пустоте летит спутник нашей старой грешной планеты — светло-серая стальная капля — локомотив «Мечта», этот летучий саркофаг, уносящий в вечность своего творца, надолго опередившего своё время...

Жизнь известной балерины Магдалины Фредериковны Знобинской напоминает салонный роман, типичный для конца прошлого столетия, роман с богатой и напряжённой фабулой и с поучительной моралью: самые невозможные, казалось бы, желания увенчиваются успехом при условии упорного труда и настойчивости.
До сих пор биография артистки была известна главным образом по устным преданиям, подчас совершенно легендарного порядка.
Многочисленные театральные рецензии на выступления З., являющиеся ценным источником для изучения её творчества, уже вследствие их узкопрофессионального характера не могут, разумеется, содействовать сколько-нибудь целостному освещению судьбы знаменитой балерины.
Однако нам посчастливилось, благодаря любезности наследников покойной артистки, ознакомиться с частью её личного архива, что позволило и проверить основательность ранее существовавших версий, и установить новые моменты артистической карьеры и личной жизни этой талантливой женщины.
Чтобы понять своеобразие обстановки, определявшей поступки и характер З., её безудержное честолюбие, непреодолимую жажду богатства, запоздалое и несколько смешное торжество её тщеславной мечты и даже её артистическую виртуозность, нам надо мысленно перенестись в северную столицу величайшей империи, в этот центр военно-феодальной и бюрократической монархии, которая, будучи подтачиваема глубокими внутренними противоречиями и социальными недугами, сохраняла ещё импозантный фасад самодержавной государственности.
Магдалина была четвёртым ребёнком в семье выходца из Польши, скромного оркестранта бывшего Императорского Мариинского театра. Ещё двое детей родились позднее. Но через несколько лет глава семейства умер, и его вдова, окружённая полудюжиной детей, оказалась в крайне тяжёлом положении. Она была вынуждена работать портнихой в балетной костюмерной мастерской; если бы нескольких детей не удалось устроить на казённые вакансии в различные учебные заведения, семья испытала бы настоящую нужду.
Маленькая Магдалина и её брат были отданы в балетное училище императорских театров, где и прошли их детские и отроческие годы и ранняя юность. Девочка хорошо понимала, что только собственный труд может избавить её от нужды и зависимости. Хотя учителя не считали Магдалину выдающимся по способностям ребёнком, но всегда отмечали неизменную старательность и редкую методичность маленькой танцовщицы, позволявшие рассчитывать, что из неё со временем разовьётся вполне подготовленная артистка кордебалета, быть может «корифейка», способная исполнять сольные танцы.
«А я, — чем хорошим могу помянуть моё детство? Связаны ли с ним радостные воспоминания?» — писала З. в дневнике в 1899 г. «Все дни и годы были похожи друг на друга, как близнецы. Я помню большой и пустой зал, где я часами упражнялась у станка перед зеркалом. В зеркале отражаются высокие окна. В них видны жёлто-белые стены противоположного дома, как две капли воды похожего на здание нашего училища. Часто по окнам стекают капли дождя или мороз рисует свои узоры. А я всё работаю и работаю...»
Да, это была среда убогая и материально и духовно, чуждая интеллектуальным интересам и гражданским устремлениям; эта была прослойка, зависимая от богатых и знатных столпов старого режима, проникнутая теми чувствами и предрассудками, которые делали отъявленными роялистами парижских актёров, вместе с камеристками, лакеями, парикмахерами.
Здесь процветали суеверие и мелочная зависть. Все мечты ограничивались глубоко мещанскими представлениями о личном счастье: профессиональный успех, а с ним богатство; ещё лучше выгодный брак, т. е. также богатство; наконец, наиболее реальная перспектива — появление блестящего поклонника, средства которого гарантировали бы жизнь в роскоши, верность — продолжительность этого обеспечения, а связи — продвижение на сцене.
Но молодость остается молодостью; и здесь для многих открывались переживания, полные романтизма и опасностей, преображавших будничное существование: записочки в подносимых во время спектакля букетах, короткие свиданья за кулисами, условленные переглядывания и воздушные поцелуи, посылаемые из окон училища молодым офицерам или лицеистам, лихо проезжающим мимо в собственных «эгоистках»... Сколько переживаний вкладывалось этими затворницами в часы их появления на сцене, откуда они могли послать поклоннику многообещающую улыбку или, наоборот, пренебрежительно уклониться от его упорного взгляда. И как бились сердца, когда узкие санки с тяжёлой меховой полостью стремительно уносились серым в яблоках рысаком в снежный сумрак набережных, в то время как казённая карета с остальными воспитанницами плелась к театру... Впрочем, все эти подробности быта «цветов театральных училищ» достаточно известны, чтобы на них останавливаться. К тому же у нас есть основания думать, что твёрдая семейная традиция, а главное, свойственные З. известная сухость чувств и дальновидная расчётливость превосходно ограждали её от возможных увлечений и ошибок. Она сама не раз упоминает в дневниках о рано сформулированном стремлении достигнуть славы, богатства и знатности. И, подобно Герману, ей не хотелось «жертвовать необходимым» в надежде приобрести недостаточно верный и недостаточно значительный выигрыш. До самого окончания училища она оставалась скрытной и неизменно трудолюбивой, хотя по-прежнему считалась не столько способной, сколько лишь усердной ученицей. Однако в нашем распоряжении есть свидетельство, доказывающее несправедливость подобной оценки. Вот что говорит в своих воспоминаниях известная балерина Людмила Ильменева, подруга нашей артистки с юных лет: «Ещё в школе Магда Знобинская поражала всех нас своей замечательной способностью подражать любой балерине. Она это проделывала с такой точностью и до такой степени верно, что буквально всегда превосходила избираемые образцы. А ей это казалось простой шалостью, хотя, я думаю, она всё запоминала и копила про себя»...
Правильность этого наблюдения доказывает, между прочим, и первое выступление З. в главной роли в «Спящей красавице» в 1890 г., которое характеризовалось несомненным подражанием той же Л. Ильменевой.
По окончании школы в 1887 г. З. танцевала в составе кордебалета. Затем ей стали поручать сольные танцы — феи Сирени и Кошечки в «Спящей», pas de trois в «Лебедином озере», Цветочницы в «Дон-Кихоте» и т. п.
Зимой 1890 г. молодая прима-балерина Ильменева подвернула ногу, и З., как упоминалось, получила счастливую возможность танцевать принцессу Аврору в «Спящей».
Знатоки-балетоманы сразу оценили выдающиеся способности дебютантки, хотя и отметили, как выше говорилось, некоторую зависимость от манеры предшественницы.
Бесспорный успех спектакля окрылил честолюбивые надежды юной артистки, но тем большее разочарование ей пришлось пережить через несколько дней, когда выяснилось, что в следующем представлении роль Авроры поручалась Фёдоровой 2-й, балерине, близкой к министру императорского двора.
Печаль З., однако, рассеялась скоро. Вечер дебюта сыграл свою роль: З. заинтересовался маститый генерал-фельдмаршал, Председатель Государственного Совета, великий князь Всеволод Николаевич, старый поклонник Терпсихоры и её жриц.
З. наяву пережила ослепительное превращение, выпавшее в своё время на долю Золушки, с той только разницей, что его виновник меньше всего походил на юнoгo принца. Она оказалась обладательницей великолепного особняка на Сергиевской улице, дачи в Царском Селе и виллы в Ницце.
Само собой разумеется, что с этой поры изменилось и её положение на Мариинской сцене. Отныне здесь царили и дружно делили лавры молодые прима-балерины З. и Ильменева. Каждая имела свой круг поклонников. Если последняя пленяла своим лирическим дарованием, обаяние которого историки балета впоследствии сравнивали с искусством Тамары Карсавиной, то первая очаровывала виртуозной техникой, большим драматическим диапазоном и поражающим мажорным блеском — особенностями, которые позволяли сопоставлять мастерство З. с творчеством Анны Павловой. Уверенность в прочности положения придавала артистке новые силы, а её трудолюбие оставалось прежним. Она ни на минуту не изменяла строгому профессиональному режиму, и те, кто думал, что «вошедшая в случай» молодая женщина не сумеет найти достойного стиля поведения, потерпели поражение.

Сначала в салоне З. собирались немногие друзья из числа театральных поклонников и артистов. Затем круг гостей стал расширяться, чему немало способствовал успех её домашних концертов, завершавшихся отличными ужинами.
В её доме стали бывать влиятельные политические деятели и дипломаты. Известный фельетонист «Нового Времени» и популярный начальник Горного департамента Скальковский был завсегдатаем вечеров З. и посвятил ей книгу статей о балете под названием «Чаровница танца». В дневниках А. С. Суворина не раз можно встретить записи о приемах З., всегда отмечающие ум и прелесть молодой хозяйки; нередко автор со снисходительностью стареющего ценителя упоминает о «забавном и даже своеобразно трогательном невежестве этой милой дамы» в целом ряде областей знаний: «Так, например, она, оказывается, совершенно искренне считала, что на Южном полюсе необычайно жарко, а луна, по её убеждению, рождается каждый месяц заново, быстро вырастая, так сказать, до её нормальных размеров...»
Лучшим доказательством такта З. являлось то обстоятельство, что она почти не показывалась вместе со своим покровителем. Но все обстоятельства её жизни свидетельствовали об окружавших её заботах и внимании.
В 1895 г. с в. к. Всеволодом Николаевичем во время представления «Дочери Фараона» случился удар. Почтенный любитель балета нашёл силы проговорить последние слова, доказывающие его неизменную верность музе танца; показывая левой рукой на кордебалет, он, запинаясь, произнес: «Хочу их всех»... Затем он потерял сознание, которое так и не возвратилось.
Утрата друга не отразилась на положении нашей артистки: признание публики уже было завоёвано, личное богатство обеспечено. Казалось, освободившись от несколько двусмысленного положения, в которое её ставила прежняя дружба, она уверенно построит новое счастье. Доброжелатели З. распространялись о её трогательной преданности покойному другу; недруги — пророчили бурные эскапады. Близкие друзья, хорошо знавшие честолюбие З., с интересом ожидали, кто окажется новым повелителем этой независимой натуры?
Через год стало очевидным, что З. близка с сыном покойного — в. к. Георгием Всеволодовичем; они жили совершенно maritalement, и время показало прочность этих отношений. Все, имевшие дела к в. к., относящиеся к возглавляемому им ведомству, хорошо знали дорогу в особняк З., где за обедами или ужинами решались важнейшие вопросы промышленных заказов и казённых поставок. В нашем распоряжении нет документальных материалов, способных опровергнуть или подтвердить слухи о денежной заинтересованности З. в различных сделках этого рода. Можно только сказать, что круг посетителей её салона разрастался и здесь теперь появились представители промышленных и банковских кругов.
Писатель Тауберг в получившем популярность романе «Низвержение века», рассказывая о недугах старого общества, подробно рисует быт З. Мы считаем своим долгом ради восстановления истины внести в его изложение ряд поправок. Так, совершенно исключается, чтобы посетители «голубой гостиной» особняка артистки «видели бесконечное повторение толпы гостей в огромных зеркалах, украшавших изящные шкафы». Кто же ставит шкаф в гостиную!
Невероятен и описываемый им случай нечистой игры в особняке З., которую вели сообща конногвардеец Нарумов и лейб-гусар Коромыслов; они плутовали, наблюдая за отражением карт партнеров в крышке золотого портсигара, переговариваясь при помощи нехитрых условных выражений. Подобное мелкое жульничество мыслимо разве в низкопробном клубе — притоне или в компании подвыпивших купчиков на волжском пароходе, но положительно невозможно в доме, посетители которого ворочают сотнями тысяч или обеспечены наследственными состояниями. Нам кажется также наивной сцена приема в. к. генерала, который с удивлением видит в кабинете хозяина нескромные принадлежности туалета З., будто бы «забытые» здесь знаменитой балериной. Можно подумать, что у этих людей не хватало комнат для уединения или что они сами должны были убирать кабинет и следить за порядком в помещениях. Вообще здесь Тауберг позволяет себе нарочитую гривуазность, обличительная ценность которой более чем сомнительна. Ещё менее вероятен случай, свидетельницей которого будто бы являлась З. перед спектаклем в Красном Селе, завершающим лагерный сбор войск гвардии. На глазах артистки ротмистр Нарумов «зарубил палашом» солдата за сказанную последним дерзость.
Автор не представляет себе, очевидно, нелепость этой сцены, так же, как и не подозревает, что в строю, в лагерной обстановке, ни у офицеров, ни у солдат не было палашей... Но вернемся к нашей артистке.
Не подлежит сомнению, что обстоятельства личной жизни З. способствовали артистическому успеху в светской столичной среде. Её искусство ценилось не только само по себе: оно, так сказать, вошло в быт. Пышные, обстановочные, несколько тяжеловесные балеты Петипа с участием З. стали принадлежностью целой эпохи, и трудно найти современника, который не упомянул бы в своих воспоминаниях о З., так же, как о впечатлениях от игры Савиной или Ермоловой, — или позже — от спектаклей Шаляпина или Комиссаржевской.
Однако вскоре выяснилось, что розы успеха имели и шипы. Близость З. к двум представителям династии, непопулярность которой живо ощущалась в интеллигентских слоях, особенно в кругах либеральной учащейся молодёжи, сделала её мишенью студенческих антиправительственных демонстраций. В ряде мемуаров мы находим рассказы о том, как при появлении на сцене З., скромно украшенной бриллиантовой диадемой, изумрудным колье или другими драгоценностями, в зале раздавались крики: «Вот куда идут деньги, предназначенные на пушки!», «Вот почему так дороги наши броненосцы!».
При выходе примы-балерины из служебного подъезда театра она встречала поджидающую её толпу студентов и курсисток и слышала негодующие возгласы: «За эти бриллианты платит народ!», «Долой помпадуров и помпадурш!».
Но хитрая и изобретательная артистка сумела найти способ не только обезвредить эту оппозицию, но и привести к тому, что именно студенческая молодёжь оказалась в числе её горячих поклонников. Речь идёт об упорно ходивших тогда слухах, будто ходатайство З. за группу польских студентов Петербургского университета, арестованных по подозрению в национально-революционной деятельности, послужило причиной сравнительно мягкого решения по этому делу: молодые люди поплатились лишь предварительным заключением, а потом были переведены в Дерптский университет. Правда, и в этом случае мы не располагаем документальными доказательствами реальности удачных хлопот З. Однако общее мнение настолько склонялось в пользу указанной версии, что теперь спектакли с участием З. стали сопровождаться сочувственными манифестациями. Это восторженное отношение учащейся молодёжи к искусству З., оказывается, «звавшей» своих юных современников в «немыслимые дали», убедительно передаёт вышедшая в 1926 г. поэма М. Щеглова «Возвращенная юность», воспроизводящая, что называется, атмосферу этой уже далекой от нас эпохи. Мы приводим несколько отрывков, считая, что они лучше, чем прозаические описания, восстанавливают отношение молодёжи того времени к творчеству нашей артистки:
| Бывало выйдешь — темень, лужи, То хлесткий дождь, то липкий снег... Осенний ветер листья кружит, Вздымает воды чёрных рек. Но, не страшась такой погодки, Путём, известным с детских лет, Спешим, как бабочки на свет, Под верхом поднятым пролетки. Подъезд, огни, толпа, кареты; Душистый, тёплый, светлый зал, Поклоны, болтовня, приветы, Блеск туалетов, люстр, зеркал... И я, стараясь быть построже, Солидней (только б не моложе!) В универс/и/тетском сюртуке, С коробкой от Беррен в руке («Berrin — каштаны в шоколаде»), Под нежный, птичий лепет дам, Под нервный гам нестройных гамм, Я чувствую себя в плеяде Тех избранных счастливцев, тех, В чьей власти милость и успех, Тех, кто самим рожденьем нравы, Чьи мысли, чувства, знанья, долг Должны давать и смысл и толк Путям воинственной державы... И возникает пышный сон: Дворцы, террасы, сень оливы, И грустно смотрит фараон На танец дочери счастливой: Провидит он войну, позор, Погибель дочери и царства, А двор его (как этот двор!) В сетях веселья и коварства... Но здесь судьбы никто не знает, И в беззаботной суете Аплодисментов гром венчает Сороковое фуэте!.. Иль возникает томный сон: Лес, озеро, прозрачный вечер, С Одиллией немая встреча Под музыки влюблённый стон; Трепещет стая лебедей, Томясь в тоске невыносимой, Как флаги наших кораблей В бою неравном под Цусимой... Но здесь судьбы не слышен глас... Следи игру движений зыбких, Суди, как подан pas de grace, Смотри, — кому её улыбки... Знобинская! Но кто поймёт, Что мы тогда переживали; Её невиданный полёт Нас влёк в немыслимые дали! |
В 1907 г. З., являющаяся уже матерью двух детей, после чествования её за двадцатилетнюю артистическую деятельность ушла со сцены. Дом её по-прежнему оставался одним из центров артистической и деловой жизни. Летние месяцы она обычно проводила в своем превосходном имении Курасово под Костромой.
В 1909 г. скончался фактический муж З. — в. к. Георгий Всеволодович. Можно было думать, что, при всем своем честолюбии, артистка удовлетворится былыми успехами. Но нет! «Я ещё никогда не жила для себя», — записывает она в своем дневнике за этот год. «Всю жизнь создавая образы молодых и влюблённых женщин, я, в сущности, не знала счастливого чувства»...
Ещё раз мы являемся наблюдателями неожиданного и ловкого хода этой артистки, одинаково талантливой и в жизни и на сцене; она связывает свою судьбу с юным сыном своего покойного друга — 18-летним князем Святославом Георгиевичем.
Грандиозные события в России в 1917 г. способствовали тому, что в 1924 г. в Париже З. обвенчалась со своим молодым избранником и получила призрачный титул (по имени своего утерянного имения) княгини Курасовой, достигнув, таким образом, осуществления тщеславной мечты своего детства, которой она была верна всю жизнь.
Мы помещаем выразительный портрет покойной артистки. Полностью сохранившая очарование, эта новая Нинон Де-Ланкло сидит в будуаре, окружённая портретами деда, отца и внука, подобно полководцу, пожелавшему запечатлеть себя на фоне завоёванных знамён.

Впрочем, — Suum cuique («каждому — своё»), как любил говаривать один неглупый король!
(*) Maritalement — по-семейному (фр.). — Примеч. ред.
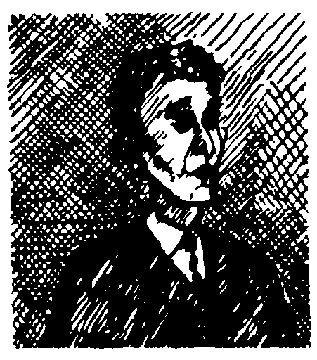
Знакомство с краткою жизнью и трагической гибелью замечательного польского экспериментатора не может не оставить глубокого следа в душе каждого, кто сохранил ещё достаточную свежесть чувства и способность к горячему сердечному отклику на проявление героического начала в жизни.
Отец Исаака Иззагардинера, владелец шоколадной фабрики в г. Кракове, имел возможность наблюдать необычайные задатки своего первенца уже в самом нежном его возрасте.
Рано развившийся, с хрупкою нервной организацией, Исаак ещё в годы своего обучения в хедере удивляет наставников и товарищей какою-то особенной душевной нежностью, склонностью к идеальным порывам и мало свойственной этому возрасту возвышенностью общей душевной настроенности. Такие натуры редко отличаются практичностью и житейским здравым смыслом. Несомненно, это был представитель того нередкого среди еврейства типа идеалиста-мечтателя и книголюба, которого в старину легко было встретить особенно среди знатоков талмуда, комментаторов каббалы, цадиков; условия нашего столетия, однако, придали врождённым склонностям И. несколько иное, довольно неожиданное направление.
Окончание Исааком частной мужской гимназии совпало с установлением государственной независимости Польши и с расширением прав местного еврейского населения. Перед И. открылись двери Краковского университета, в который он и поступил на медицинский факультет. Этот выбор был сделан юношей вопреки воле отца, рассчитывавшего видеть в единственном сыне своего преемника; впрочем, семейству Иззагардинеров давно уже стало ясно, что характеру юного мыслителя недостает целого ряда свойств, необходимых практическому деятелю. Вместе с тем задумчивый юноша, постоянно витавший, по выражению его отца, в облаках, умел проявлять железное упорство и настойчивость, когда дело касалось принципиально важных для него вопросов жизни.
Известно, что на выбор профессии молодым И. повлияло одно прискорбное событие в его семье: его любимый дядя, много лет страдавший гастритом, преждевременно и скоропостижно скончался от заворота кишок.
Размышления о причинах этого несчастья привели молодого человека к своеобразному выводу: он остановился на мысли, будто бы предпосылкой заворота кишок явился гастрит, вызванный в свою очередь привычкой покойного недостаточно хорошо прожёвывать пищу. Эта догадка, быть может и спорная с точки зрения господствующих в современной науке взглядов, переросла в сознании юного мыслителя в некую неподвижную и почти всеобъемлющую идею: дурное прожёвывание пищи стало рисоваться ему источником едва ли не большинства бедствий, постигающих человека. Именно эта идея и заставила его избрать медицинский факультет, чтобы отдать все свои силы делу борьбы с упомянутым злом.
К концу университетского курса И. уже полностью отдавал себе отчет в том, что корень несчастья заключается в несоответствии имеющегося у человека количества зубов потребностям усвоения пищи. Подтверждение этой мысли И. находил в углублённом изучении сравнительной стоматологии, открывшем ему тот факт, что многие позвоночные, в особенности некоторые рыбы и ископаемые рептилии, обладали добавочными рядами зубов на нёбе и даже на языке. Таким образом, стоматология, которую И. решил избрать своей специальностью, способствовала кристаллизации его идеи и привела к тому, что после сдачи государственных экзаменов молодой ученый целиком посвятил себя разработке своего замечательного изобретения.
Сущность его заключалась в доведении числа зубов человека до 42. Найти в полости рта место для размещения такого количества инородных тел представлялось нелёгким делом. И. разрешил эту задачу остроумно и просто: 5 зубов должны были уместиться на нёбе, образуя как бы вогнутую дугу, направленную перпендикулярно к передним зубам в сторону гортани. Но так как соответствующую им пятерку нижних зубов можно было разместить только на языке, то изобретатель прибег к идее эластичной ленты, надеваемой на язык только во время принятия пищи, закрепляемой на нём с помощью присосок и снабжённой сверху пятью фарфоровыми зубами.
В 1925 г. молодой изобретатель изложил свой проект усовершенствования жевательного аппарата на заседании Польского Медицинского общества.
Вряд ли когда-нибудь случалось хоть одному новатору в области науки пережить минуты, подобные тем минутам после доклада, которые всякого другого изобретателя, менее уверенного в своей правоте, чем И., могли бы толкнуть на самоубийство или свести с ума. Из-за хохота, стоявшего в зале, последние фразы доклада так и остались никем не услышанными. Знаменитого стоматолога проф. Пшенявского пришлось отпаивать валерьянкой. Другое светило науки было выведено из зала под руки, ибо приступ смеха не давал ему самостоятельно переступать ногами. Про одного маститого ученого (назвать здесь его фамилию мы не решаемся, щадя его репутацию в ученом мире) рассказывали даже, будто бы он, потеряв всякий контроль над своим брюшным прессом и дыхательными мышцами, дохохотался до того, что по возвращении домой с ним случился приступ нервической икоты, не прекращавшейся шесть суток и едва не сведшей этого весёлого не по возрасту специалиста в могилу.
Такая реакция квалифицированной аудитории, наглядно продемонстрировавшая всю косность и несерьёзность дипломированных представителей польской медицины, исключала, разумеется, всякую надежду на объективный разбор проекта д-ра И. Разрыв замечательного новатора с научной общественностью стал совершившимся фактом; изобретатель вместе со своей идеей был предоставлен самому себе. К счастью, независимое состояние И. спасало его, по крайней мере, от материальной катастрофы, которая постигла бы на его месте всякого научного работника, не имеющего дополнительных средств существования. И. сумел даже опубликовать проект своего изобретения, издав его за собственный счет; впрочем, и этот шаг не возымел никакого положительного эффекта.
Печальные размышления о будущем мировой науки охватят всякого, кто ознакомится с четырехлетними мытарствами И., махнувшего рукой на товарищескую помощь и пытавшегося на свой страх и риск найти хотя бы одного непредубеждённого человека, который согласился бы подвергнуться рекомендуемой операции. Странное ослепление мешало людям понять, что они отказываются от собственного счастья, от баснословного увеличения способности своего организма усваивать пищу и, следовательно, от продления своей жизни на много лет против положенного ей от природы срока. Даже единственный единомышленник И., престарелый и, к сожалению, проявлявший признаки dementia senilis стоматолог Стамескес отказался подвергнуть себя рискованному опыту и предложил вместо этого произвести операцию над самим И. После недолгого колебания, не видя иных путей к осуществлению своей идеи, изобретатель мужественно ответил согласием.
В мае 1929 г. роковая операция состоялась. У оперированного был удален кусок нёбной кости и на его место вставлена пластиковая пластинка с пятью фарфоровыми зубами. Для надевания на язык была приспособлена лента из эластичного материала, снабжённая таким же количеством зубов и присосками.
К сожалению, непредвиденные обстоятельства затруднили пользование усовершенствованным жевательным аппаратом.
Прежде всего, обнаружилась неправильность расчета изобретателя на то, что ленту можно будет снимать на всё время между часами принятия пищи, дабы обеспечить отдых языку и не мешать дикции: верхние зубы, укреплённые вдоль неба, всё равно тревожили язык при малейшем его движении; уже через сутки после операции не только речь, но даже акт проглатывания слюны сделался мучительным, язык распух и едва умещался в полости рта. Пришлось опять защитить его от небных зубов лентою; однако при наличии ленты речь делалась окончательно невозможной и оперированный вынужден был объясняться с окружающими при помощи карандаша. Кроме того, наличие ленты препятствовало правильному кровообращению (кровоснабжению) языка; на этой почве и вследствие постоянного давления со стороны небных зубов на языке появились пролежни.
Срочно созванный консилиум специалистов обратился к мужественному экспериментатору с настойчивым предложением: отказаться от дальнейших попыток и, признав опыт неудавшимся, решиться на удаление из неба злополучной пластинки с зубами. Но мученик науки слабеющими пальцами начертал ответ, достойный украсить биографии подлинных героев: «Моя жизнь имеет смысл постольку, поскольку она служит ступенью к долголетию других и к счастью человечества. Ничего нет отраднее, чем сознание, что отдаешь себя во имя продления жизни миллионов. Да здравствует наука!»
К сожалению, эти слова оказались пророческими: через два дня пролежни перешли в молниеносную гангрену, и 17 мая 1929 г. Исаака Иззагардинера не стало.
(*) Dementia senilis —старческое слабоумие (лат.) — Ред.

Старинный неаполитанский род Иниго ди Виченца насчитывает ряд выдающихся государственных деятелей, из которых особую известность приобрели маркиз Паоло И. д. В. — в начале XIX в. Председатель Совета Министров Неаполитанского Королевства, его старший сын маркиз Никколо И. д. В. — посол королевства обеих Сицилий в Турции, где он получил с гордостью носимое им имя «отец лжи», впоследствии министр внутренних дел Неаполя, и младший сын — отец маркиза Алексиса-Бенвенуто — маркиз Алексис-Паоло И. д. В. — командир привилегированного гвардейского полка Garde du Corps, член Совета Королевства и влиятельный деятель реакционного крыла неаполитанской аристократии.
Служебная карьера маркиза Алексиса-Бенвенуто И. д. В. складывалась блистательно, как это и полагалось в королевстве обеих Сицилий для молодых людей его происхождения. Он учился в военной школе (Corps des pages), вышел офицером в Garde du Corps, окончил Военную Академию. Во время войны в Африке служил адъютантом главнокомандующего. По окончании военных действий состоял военным атташе в ряде европейских государств.
Национальная революция, свержение короля Фран циска II и объединение Италии застали маркиза И. д. В. на военно-дипломатическом посту в Лондоне. Он перешёл на службу нового итальянского правительства, передав ему средства и дела Неаполитанской военной миссии, и снова занял пост военного представителя, на этот раз — королевской армии объединённой Италии. Как видим, деятельность И. д. В., казалось бы, не позволяет ему занять место в ряду замечательных современников. Но им написаны пространные воспоминания, имевшие исключительный успех как в Италии, так и за её пределами, сделавшие автора известным всему миру.
Слава не всегда увенчивает только подлинные заслуги, и мы чувствуем себя обязанными дать объективную характеристику труда м. И. д. В., рискуя разойтись в мнениях с его многочисленными поклонниками, мало знакомыми с историей Италии. Более того: мы считаем, что эта занимательная книга может принести немало вреда тому, кто простодушно поверит легкомысленному автору и попытается составить себе представление о положении вещей в Неаполитанском Королевстве по страницам знаменитых мемуаров. Наш разбор воспоминаний м. И. д. В. позволит в то же время остановиться на наиболее выдающихся событиях его жизни, в свою очередь довольно поучительной.
Мемуары м. И. д. В. вышли на французском языке под заглавием: «Une vie avec l'epée à la main» — «Жизнь с мечом в руках».
Вероятно, это описание судьбы сурового солдата, проведшего всё земное существование в сражениях и походах? — подумает читатель. Напрасно! Маркиз И. д. В. пребывал в строю в точном смысле этого слова лишь полтора года — от момента поступления в полк, после окончания военной школы, до зачисления слушателем в Военную Академию. Всю остальную жизнь он должен был орудовать мечом, так сказать, индивидуально, на свой страх и риск, подобно Давиду с пращой, так как служба адъютантом или военным атташе изолировала маркиза от доблестных войск и казарменной или походной скуки и, по правде сказать, вряд ли давала повод вытягивать это грозное оружие из ножен.
Значительную часть первого тома мемуаров занимают рассказы о дворцовых праздниках, придворных балах, о светских успехах молодого маркиза, танцевавшего с королевой и принцессами, о великолепии его конюшни и гардероба, о лихом командовании эскадроном, о блестящих ответах на экзаменах, приводивших профессоров в восхищение.
Но вот началась африканская авантюра. Маркиз И. д. В. просил короля о назначении в действующую армию. Его просьба была удовлетворена; он был назначен адъютантом главнокомандующего генерала Пердричио. Юный учёный воин полетел на поля Марса.
«В вагоне экспресса, — рассказывает м. И. д. В., — я встретил ехавшую на фронт большую группу гвардейских офицеров, облачившихся в форму армейских драгунов. Мы — «академики» — с некоторой иронией наблюдали за этими представителями золотой молодёжи во главе с печально-известным впоследствии графом Бранчелли».
Остановимся на этом, казалось бы, пустяковом случае; он интересен, вскрывая основательность взглядов автора.
Во-первых — забавна эта «некоторая ирония» учёного «академика», едущего служить в безопасной штабной должности адъютанта главнокомандующего, по отношению к товарищам, направляющимся в боевой полк.
Во-вторых — граф Бранчелли, действительно позже запятнавший себя мрачной ролью вождя войск реакции, сумел в итало-австрийскую войну смелой конной атакой захватить тяжёлую батарею противника, — подвиг, которому м. И. д. В. не смог бы ничего противопоставить, несмотря на постоянное ощущение меча в руках.
В-третьих — к моменту встречи в вагоне этот представитель золотой молодёжи успел, как, впрочем, отмечает и сам автор воспоминаний, окончить горный факультет Высшей политехнической школы в Париже, так что вряд ли заслуживал «некоторой иронии» со стороны «нас, академиков».
Итак, м. И. д. В. очутился на полях сражений, вернее, в комфортабельной ставке главнокомандующего. Он изнемогает от дел: надо встречать, провожать, развлекать и сопровождать в безопасные экскурсии военных представителей всех держав.
«Я должен был с ними завтракать, обедать и ужинать, и это день за днём, всю войну. Ужасно!»
Ордена сыпались на грудь м. И. д. В. потоком.
«Я накопил их столько, что с тех пор не покупаю ёлочных украшений: моя жена, со свойственным ей артистическим вкусом, всегда украшает рождественскую елку этими красивыми безделушками».
Впрочем, скоро наш герой встретился со смертью лицом к лицу: «Пуля просвистела мимо носка моего сапога. Я невольно отдернул ногу. Следующая пуля прозвенела около правого уса, а, признаться, в молодости я гордился усами. Я машинально закрутил его кверху...»
Обыкновенно в таких случаях люди пригибают голову, но маркиз И. д. В. для этого слишком горд и отважен. Кроме того, он на редкость смышлен: он улавливает, «мимо чего» свистят пули...
И. д. В. оказался верным другом главнокомандующему. По ночам генерал Пердричио, фатально проигрывавший одно сражение за другим, горько жаловался своему адъютанту на несправедливость судьбы и на недостаточную популярность своего знаменитого боевого клича — «терпение!».
Доброжелательство к своему начальнику И. д. В. сохранил и после того, как король Франциск II под влиянием позорных поражений был вынужден сместить генерала Пердричио с поста главнокомандующего.
В те дни это было благородно. Но удивительно то обстоятельство, что и спустя сорок лет, когда писались мемуары, И. д. В. не нашёл оснований для критики беспомощных действий этого злосчастного полководца.
Дело объясняется, по-видимому, тем, что все критические способности автора воспоминаний направлены на очернение единственного талантливого государственного деятеля Неаполитанского Королевства того времени — премьер-министра Виттелио.
И. д. В. постоянно противопоставляет этих сановников — премьера и б. главнокомандующего — друг другу, сравнивает их взгляды и действия, неизменно в пользу Пердричио.
А основательное сравнение деятельности того и другого могло бы оказаться чрезвычайно интересным!
Пердричио, получив назначение главнокомандующим, полторы недели медлил с отъездом из Неаполя, занятый главным образом визитами к особам королевского дома. Две недели он провёл в пути: его поезд останавливался в каждом крупном городе, а крейсер, доставивший генерала к берегам Африки, — в каждом крупном порту: главнокомандующий произносил речи на банкетах, выстаивал молебны, принимал депутации. Его салон-вагон и адмиральский салон на корабле были битком набиты подношениями — хоругвями и иконами. Монастырь Св. Михаила поднёс генералу походный алтарь и откомандировал монаха для постоянного ухода за этим пышным и сложным сооружением.
Виттелио поступал иначе. Будучи назначен главою мирной делегации, он прибыл к месту переговоров, побив все рекорды скорости.
Пердричио обманул возлагавшиеся на него надежды. Виттелио превзошёл все ожидания, с блеском заключив скорый, выгодный и сравнительно почётный мир.
Во время военного и общественного кризиса Пердричио был способен лишь повторять: «Пути господни неисповедимы»; Виттелио решительно и ловко вывел страну, ценою некоторых уступок, из грозного вихря революционных потрясений.
Все это легко установить, хотя бы взглянув на изданную переписку названных деятелей. Но И. д. В. просто не задумывается над такими сложными вопросами. Для него всё очень просто:
«Если бы генералу Пердричио не мешали бы постоянные вмешательства из Неаполя, если бы ему дали необходимые подкрепления, если бы войска проявили больший героизм, а общество — большее терпение, если бы Виттелио не поспешил заключить мир, если бы, наконец, генерал решительнее следовал моим советам — всё могло сложиться иначе».
Рассказывая о днях стихийных потрясений, последовавших за неудачной войной, И. д. В., путая все события, самым пренебрежительным образом отзывается об усилиях премьера Виттелио стабилизировать положение: «Этот честолюбивый политикан предавал интересы родины, руководствуясь главным образом мнениями своей жены, связанной с кругами заграничных банкиров».
Ещё любопытнее, что, повествуя о размахе народных волнений, И. д. В. ухитряется связать с ними столь враждебную им деятельность своего отца генерала Алексиса-Паоло И. д. В., бывшего, как мы выше упоминали, лидером наиболее реакционного крыла придворной камарильи. Оказывается, генерал А. П. И. д. В. пал жертвой не покушения революционеров-анархистов, а... самого короля Франциска: его убили по приказанию монарха. Этот несчастный король виноват перед своей страной во многом. Но считать его убийцей одного из основателей знаменитых «чёрных когорт», прославивших себя позорными насилиями под лозунгом защиты старинного самодержавия короля обеих Сицилии, — значит предаваться безудержной фантазии, противоречащей истине и здравому смыслу.
Впрочем, наш автор столь бесцеремонен, что способен на следующее высказывание:
«Я вспоминаю отца, каким я видел его в последний раз, когда он, задумавшись, стоял на перроне, провожая меня на войну, стоял в той самой позе, в которой его изобразил знаменитый художник Реппини в своей известной картине «Заседание Королевского Совета». Я знал причину задумчивости отца. Он не только грустил о сыне: он чувствовал, что король его ненавидит за то, что отец был умнее, популярнее, красивее и толще короля Франциска».
Но, между прочим, всякому, видевшему полотно Реппини, известно, что генерал А. П. И. д. В. изображён откинувшимся на спинку кресла, т. е. в такой позе, которая позволяет лишь сидеть и совершенно исключает возможность стоять. Это всё равно как сказать, что кто-нибудь стоял на перроне в позе Данаи или Лаокоона. Но как же упустить случай прихвастнуть великолепным прошлым семьи: нас писал Реппини!
Не подлежит сомнению, что генерал А. П. И. д. В. был в известной оппозиции к королю Франциску. Но это была оппозиция не слева, а справа, оппозиция слабому королю, жаждавшая установления «правительства сильной руки».
Учитывая, что в конце столетия мало кто помнил и знал ход событий, И. д. В. ловко создавал впечатление, будто бы в его семье царили демократические взгляды. На самом же деле в основе убеждений этого семейства лежали принципы большего роялизма, чем у самого короля.
Ещё забавнее выглядит признание И. д. В. в «радикализме» своих собственных воззрений.
«Моя мать и даже мой брат, служивший в гвардейских гусарах, были просто в ужасе от моих слов».
Мы без труда представляем себе последовательную прогрессивность убеждений нашего автора, принимая во внимание, что они декларировались в «чернокогортном» салоне маркизы, для характеристики которого достаточно напомнить, что в нём подвизался известный падре Иллиодоро. Этот темпераментный оратор проповедовал столь резкие и крайние религиозные и политические взгляды, что даже правительство короля Франциска II оказалось вынужденным сослать его на юг Сицилии. По этому поводу неаполитанцы распевали песенку:
| Была война, дымил Везувий И был салон маркизы И.; Там политических безумий Звучала проповедь в те дни... |
Но И. д. В. не ограничивался сознательной путаницею в изображении исторических событий. Часто ему просто лень проверить свои воспоминания; читателя он презирает и пишет сплошную ерунду: «Об этом мне рассказывал мой друг, погибший вместе со всем экипажем в бою, на крейсере «Акциум» у берегов Африки».
Здесь неверно все. «Акциум» был не крейсером, а броненосцем.
Погиб он не у берегов Африки, а неподалеку от Венеции.
Случилось это не во время войны, а за четыре года до неё. Затонул броненосец не от вражеских снарядов, а напоровшись на риф. К тому же при его гибели не погиб ни один человек.
В действительности рассказчик потерял друга при гибели крейсера «Ромул», что можно было бы установить в несколько минут, взяв любой справочник.
На всё, лежащее вне привычного окружения собственной персоны, И. д. В. смотрит с лёгким презрением, иногда с жалостливой брезгливостью — армейские берсальеры — фи! — они по бедности носят на балах нитяные белые перчатки вместо лайковых... Французские офицеры — несчастные бедняки: они с нескрываемой завистью осматривали элегантное ландо маркиза... Либеральная интеллигенция — она погрязла в абстрактных иллюзиях и всегда так неряшливо выглядит...
Зато все, что касается самого автора, рассказывается с одушевлением и любованием, заставляющими вспомнить стиль воспоминаний другого Бенвенуто — Бенвенуто Челлини. Как известно, этот несравненный художник и блестящий авантюрист любил приврать вроде того, что, мол, вдруг пошёл град величиною с лимон и только благодаря своей обычной ловкости он спасся, быстро спрятавшись под деревом, и т. п.
И мы постоянно читаем: «Вечером я выехал из Флоренции, а уже утром завтракал в своей изящной квартире в Риме», или: «Я выехал северным экспрессом из Рима и уже на следующий день был в Париже». Это говорится с таким видом, как будто бы скорость передвижения определялась не расписанием поездов, а расторопностью и смелой лихостью автора мемуаров, точно он был изобретателем автомобиля или одним из первых в мире пилотов.
Ещё комичнее звучит эта хвастливая нота, когда речь заходит о действительно великих событиях — об объединении Италии, о гражданской войне и т. д.
«Я твёрдо решил сделать всё для объединения моей страны...»
«Я решил отдать все свои силы делу возрождения моей родины и, пообедав в Лондоне в отеле «Savoy». отправился в Париж, откуда, после ужина в «Carlton — Ritz», выехал в Рим. Уже через сутки я, готовый умереть под знаменами Гарибальди, вновь увидел вечный город».
Все это перемежается с назойливыми описаниями кабачков Монмартра, фешенебельных охот, увеселительных прогулок на яхтах, раутов в Лондоне, балов в Париже, праздников и приемов в Фонтенбло и т. д. и т. п.
Забавно, однако, что итальянское общество и даже правительственные круги, в том числе граф Кавур и Криспи, вполне серьёзно отнеслись к этому Тартарену. Так, например, хотя руководители новой Италии весьма сурово и последовательно искореняли память о реакционных деятелях неаполитанского королевства, И. д. В. удалось добиться разрешения поставить на охраняемом участке кладбища Неаполя новый памятник своему отцу с горделивой надписью: «Маркизу И. д. В., генералу старой Неаполитанской армии, от сына, генерала новой итальянской армии».
Последние десятилетия своей жизни генерал маркиз И. д. В. жил привольно, хотя и не очень достойно, выступал в печати по таким важным вопросам, как, скажем, необходимость ввести уроки танцев в военноучебных заведениях Италии, занимая место признанного легализованного представителя старой знати, её, так сказать, последнего могикана и в то же время шута высших сфер.
Повторяем: говоря о знаменитых людях, приходится считаться с реальной известностью, которая завоевывается различными путями. Увы! Фортуна, как подчас это случается со всякой женщиной, выбирает себе любимцев, не считаясь с тем, в какой степени её фавориты соответствуют нашим представлениям об уме, таланте, добродетели и доблести, подобающим великим мужам.

Время рождения Квак-Ма-Лунг (Эсфирь-Анны Броунинг) установлено только приблизительно, т. к. к вопросам летосчисления до своего приобщения к цивилизации К. относилась без заметного интереса.
Племя кири-кири этнически входит в состав обширной группы даякских племён, заселивших не менее I тысячи лет назад о. Борнео и ряд мелких островов в его окрестностях. Оно обитает на небольшом, ок. 20 км в поперечнике, одноимённом островке и до последнего времени пользовалось репутацией свирепых каннибалов.
В 1910 г. племенем был вероломно убит и принял невольно, так сказать, страдательное участие в каннибальской оргии миссионер реформаторской церкви преподобный Стокс. Когда на его место прибыл 7 месяцев спустя новый герой просвещения отсталых народностей преп. Гарри Броунинг, многие кири-кири ещё пользовались личными вещами своей недавней жертвы. Так, например, Квак-Ма-Лунг, одна из наиболее смышлёных представительниц прекрасного пола на о. Кири-кири, ни днём ни ночью не расставалась с целлулоидовым воротничком погибшего, хотя этою реликвией едва ли не исчерпывался её скромный туалет.
Не подлежит сомнению, что ни кротость, ни бесконечное терпение, ни духовная твёрдость не спасли бы преп. Броунинга от участи его предшественника, если бы, в противоположность покойному Стоксу, он не обладал молодостью и чрезвычайно привлекательной внешностью. Сердце К., оставшееся глухим к увещеваниям трагически погибшего почтенного джентльмена, на этот раз доказало принадлежность своей владелицы к человеческому роду.
Опасаясь соплеменников, К. таила своё робкое чувство вплоть до того рокового дня, на который вождём племени была назначена очередная каннибальская оргия, сопровождавшаяся как водится, необузданными плясками в честь производительных сил природы. Зная, что преп. Броунинг должен пасть в этот вечер новой жертвой искажённых понятий этих темных людей, К. тайно проникла ночью в его шалаш и, сообщив об опасности, умоляла его бежать. Но так как самоотверженный проповедник наотрез отказался покинуть пост, на который чувствовал себя поставленным высшею силой, то К. прибегла к отчаянной хитрости, приведшей к её разрыву с материнским племенем. Подмешав в пищу преп. Броунинга мелкие кусочки корня Cecilia arbonica, широко используемого даяками в качестве снотворного мужественная девушка, не дожидаясь утра, перенесла бесчувственного миссионера на своих плечах к морскому берегу, проделав при этом свыше 5 километров по непроходимым джунглям. Разумеется, нигде на всем о. Кири-кири беглецы не могли быть вне опасности. Поэтому К., не медля ни минуты, соорудила примитивный плот, когда действие Cecilia arbonica прекратилось и преп. Броунинг поднял отяжелевшие веки, он, к своему немалому удивлению, увидел вокруг себя водную поверхность, освещённую восходящим солнцем, а в какой-нибудь сотне ярдов впереди — берег о. Борнео.
После всего происшедшего вопрос о возвращении к просветительской деятельности на о. Кири-кири для преп. Броунинга отпадал сам собой. Беглецы приютились сначала на ближайшей английской фактории, где преп. Броунинг стяжал первый плод своего подвига, присоединив Квак-Ма-Лунг к реформатской церкви, согласно всем требованиям своей конфессии, под именем Эсфири-Анны. Убогий наряд дикарки, состоявший из кое-каких ракушек, был оставлен, и члены тела Эсфири-Анны впервые ощутили благодетельную близость полотна и бумазеи. Только воротничок покойного Стокса новообращённая решила оставить на себе как постоянное напоминание о прошлых заблуждениях.
Вместе со своею спутницею Броунинг прибыл в реформатскую миссию в г. Банджермазине, где принуждён был несколько месяцев ждать нового назначения. В этом же городке в сентябре 1911 г. беглецы сочетались законным браком по обряду своей церкви. Однако обстоятельства, при которых Броунинг принуждён был покинуть свой пост на о. Кири-кири, возбудили некоторое недоумение в миссионерском братстве, и Броунингу пришлось совершить вместе с молодою супругою плавание через океан. Лишь в Сан-Франциско, перед лицом руководящих членов братства, удалось ему отклонить от себя подозрение в дезертирстве.
Впечатления, полученные Эсфирью-Анной в Банджермазине, Маниле и Сан-Франциско, обильно оросили девственную почву её духа, и семя, брошенное мужественным проповедником, быстро принесло щедрый урожай. Э.-А. выразила твёрдую решимость отдать свои силы делу просвещения отсталых народностей и с поразительной быстротой усвоила небольшой объём необходимых для этого знаний. К сожалению, её отбытию из Америки на Борнео предшествовало прискорбное событие — загадочное и бесследное исчезновение преп. Броунинга, от которого не уцелело даже косточки. Подавленная горем, но ещё сильнее воспылав духовной ревностью, Э.-А. была отправлена назад и в августе 1913 г. прибыла в Банджермазин, в распоряжение миссии. Мрачные воспоминания, связанные с о. Кири-кири, не благоприятствовали её назначению на этот остров; вместо прежних соплеменников в качестве арены для её благочестивых усилий было указано небольшое даякское племя лу. Знание даякского языка, обычаев и психологии паствы открыло ей доступ к простым сердцам детей природы, и в первое полугодие цивилизаторской деятельности Эсфирью-Анной были приобщены к радостям духовной жизни 9 женщин и 3 мужчин. Главные же усилия молодой просветительницы были направлены, во-первых, на борьбу с людоедством, во-вторых, — на то, чтобы уговорить даяков хоть немного усложнить свой костюм. Беспристрастие, являющееся во всё время священным долгом всякого историографа, заставляет нас, однако, признаться в том, что атавистические инстинкты оказались не до конца изжитыми и в душе самой Э.-А. Никому не известно, какую внутреннюю борьбу пережила проповедница в это первое полугодие среди племени лу; известно лишь, что в ту весеннюю ночь 1914 г., которая должна была быть посвящена ритуальной оргии в честь производительных сил природы, древний голос крови заговорил в бывшей Квак-Ма-Лунг с непреоборимой силой. С внезапным гневом и отвращением сорвав с себя покровы цивилизации, за исключением воротничка, молодая женщина с вакхическим воплем присоединилась к разнузданным действиям своей паствы. Трудно представить, как могла бы сложиться после этого неожиданного срыва судьба Э.-А., если бы Бум-Нампрок, вождь племени лу, не оказался взволнован больше обычного её экстатическим поведением. Ещё не взошло солнце, спешившее своими лучами обличить падение служительницы высших истин, как Э.-А. была объявлена первою супругою вождя и вступила в его роскошный шалаш как полновластная хозяйка.
В последующие годы, вплоть до своей мирной кончины от укуса змеи, Э.-А. принесла своему новому супругу 16 детей. Но и обременённая материнскими обязанностями, она не оставляла попечений о духовном и материальном процветании племени.
Память о ней доселе хранится в непритязательном фольклоре племени лу, где бывшая проповедница фигурирует под именем Ma-тумба, что значит — «Потерявшая счёт своим детям мать племени лу».

Один из талантливейших русских адвокатов, Георгий Викторович Красович, родился в Москве в семье профессора-юриста. Здесь он окончил гимназию и университет.
Первое выступление К. в качестве защитника состоялось в 1883 г. по делу семинаристов Кротова и Смиренномудренского, обвинявшихся в похищении одежды в Сандуновских банях.
Этот, казалось бы, скромный случай позволил тем не менее К. поставить широкие и важные проблемы быта учащейся молодёжи, указать на её суровую борьбу с нуждой, потребовать принятия ряда мер как со стороны Министерства народного просвещения и Святейшего Синода, так и со стороны московской общественности — открытие студенческих дешёвых столовых, мастерских пошивки форменной одежды и т. п. К. доказал, что обвиняемые строго руководствовались дефицитом собственного гардероба, никогда не выходили за пределы лишь самого для них необходимого.
Очень скоро скромный присяжный поверенный завоевал репутацию одного из лучших защитников, выигрывал дела, за которые не решались браться знаменитейшие адвокаты обеих столиц.
Общее признание принес К. оправдательный приговор в громком процессе по обвинению вдовы коллежского регистратора Ивановой в убийстве генерала Васильева, у которого она служила экономкой. Особый интерес этого дела состоял главным образом в том, что на стороне обвинения имелись веские на первый взгляд вещественные доказательства: топор, платье Ивановой, также со следами крови, записка подсудимой, адресованная скрывшемуся до суда мещанину Герасимову, уже привлекавшемуся ранее по обвинению в нескольких грабежах и убийствах, с более чем подозрительными словами: «скоро я управлюсь с хозяином, и мы будем богаты».
Обвинение располагало и признанием Ивановой, порученным в ходе предварительного следствия.
Исключительно яркая аргументация К., красноречивая характеристика героини процесса как жертвы обстоятельств, блестящая гипотеза, что исчезнувший Герасимов и является убийцей, действовавшим под влиянием ревности, а никак не корыстных соображений, наконец неясность и вялость показаний Ивановой в ходе судебного разбирательства, — всё это заставило присяжных прийти к выводу о невиновности подсудимой.
В течение следующих двух десятилетий К. принял участие в целом ряде нашумевших процессов — убийство профессора Бермутовского, банкротство акционерного общества «Олимп», дело о железнодорожном крушении на станции Калиновской, дело о так называемом «клубе бубновых валетов» и др.
В 1893 г. выступления К. привели к пересмотру и отмене приговора, обвинявшего бывшего ротмистра Копылко в ростовщичестве, шантаже и изнасиловании, и к полному оправданию (за недостаточностью доказательства фактов преступления) известного разбойника и убийцы — Силина, прозванного «Ванькой-Каином».
Особый успех выпал на долю К. в 1908 г., когда слушался процесс художника барона фон-Штрома, убившего из ревности балерину Вершкову 2-ю, разрезавшего её тело на куски, упаковавшего останки в чемодан и отправившего последний подозреваемому им в успехе у покойной писателю 3. К. доказал, что здесь имел место случай аффекта, осложнённого профессиональными навыками: Штром был превосходным мастером мозаики.
«Кто бы из нас, господа присяжные заседатели, — закончил свою речь знаменитый адвокат под общий плач зала, — поступил бы иначе, будучи любящим человеком, потерявшим самое дорогое в жизни — ответное чувство, будучи художником, от которого уходит его муза?!»
Благоприятное заключение медицинской экспертизы подтвердило впечатление от речи защитника. Штром был приговорён к сравнительно мягкому наказанию: его обязали принудительно пройти курс психиатрического лечения и понести церковное покаяние.
Отличительной чертой красноречия К. было спокойное всестороннее исследование обстоятельств преступления; он всегда сохранял гуманный взгляд, стремился понять самые сложные переживания, неизменно доверял нравственным началам, заложенным в каждом человеке, был убеждён в конечной победе лучших душевных импульсов даже в закоренелых преступниках.
Неотразимость речей К. обуславливалась прежде всего именно убеждённостью самого оратора и совершенно не зависела от крупных гонораров, обычно получаемых им за выступления.
В 1897/98 г. выходят в свет книги К. — «Судебные речи» и «Сборник статей по судебным вопросам», ставшие классическими трудами либеральной юстиции, на которых воспиталась целая плеяда позднейших деятелей адвокатуры.
С 1905 г. К. стал выступать в суде реже, т. к. основное время отдавал службе юрисконсультом в Волго-Донском банке и «Обществе взаимного страхования».
Последним выступлением маститого адвоката — его, так сказать, «лебединой песнью» — была защита в процессе сына известного банкира Кромко, обвинявшегося в похищении восьми молодых цыганок из трех цыганских таборов.
Оправдательный приговор — результат усилий К. — вызвал недовольство тёмной цыганской массы. К. пал жертвой мести: он был убит в лесу, когда возвращался со станции железной дороги в своё имение «Зеленый шум».
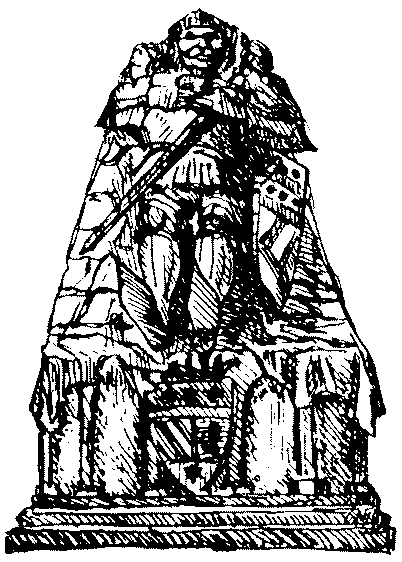
Родился в замке Вальденфельс в Нижнем Гарце. Его надгробный памятник, воспроизведённый в настоящем издании, до сих пор украшает фамильную усыпальницу Левенштернов. Неизвестному скульптору удалось, как нам кажется, ярко выразить основные черты характера Л.: необузданность, приверженность к горячительным напиткам, склонность к чувственным удовольствиям и в то же время — известное добродушие.
С отроческих лет Л. отличался мужественным стремлением к вечноженственному. Соответственные поиски сталкивали юного Л. с представительницами прекрасного пола всех слоев общества, вплоть до самых низших. И в настоящее время, согласно распространенным в Гарце семейным преданиям, Л. считается родоначальником целого ряда крестьянских фамилий. Если верить этим, правда, чересчур многочисленным и однообразным сказаниям, придётся прийти к выводу, что молодой рыцарь прямо содействовал появлению на свет 375 детей.
Однако эти утверждения до некоторой степени противоречат трогательной и основанной, по-видимому, на достоверных событиях легенде о любви Л. к красавице Мике Хирзекорн, дочери лесника. Ещё шестнадцатилетним юношей он увидел Мику на охоте, влюбился в неё с первого взгляда и вскоре добился взаимности. Добродетельный отец Мики, узнав о падении дочери, выгнал её из дома. Л. укрыл возлюбленную в одинокой лесной хижине, где она прожила счастливо около трех лет.
Мальчик и девочка явились плодами этого тайного романа.
Упорный отказ Л. от настойчивых требований его родителей жениться на знатной невесте помог старому барону раскрыть тайное счастье сына. Убежище Мики было найдено, она подверглась обвинению в колдовстве, при помощи которого будто бы ей удалось приворожить молодого барона. В соответствии с мрачным духом эпохи Мику сожгли как ведьму.
Это событие до глубины души потрясло Л. и ожесточило его на всю жизнь. Он начал предаваться пьянству и дебошам, в особенности полюбил срывать ярость на монахах и священниках.
Можно думать, что эти приступы бесчинств чередовались с состояниями апатии, которыми воспользовались родители Л., заставив его жениться на богатой, но лишённой очарования графине Ютте фон Беренсвальд.
Вскоре Л. осиротел и вступил в права владения своими доменами. Барон мог больше не ограничивать себя ничем в грубых забавах и удовольствиях. Его супруга окружила себя толпой миннезингеров, с которыми предавалась изысканным эстетическим переживаниям, что не помешало ей, однако, перейти границы дозволенного с одним из этих платоников.
Л. до последней степени презирал шумное и восторженное окружение своей жены, называл его не иначе как «шайкой завывающих поэтов», предпочитая музыке и пению добрый бокал вина и вместительную кружку пива. Когда к этой антипатии добавились обоснованные подозрения в том, что один из миннезингеров оскверняет его супружеское ложе, он, с присущей ему прямотой, разогнал всех музыкантов, накормил мясом соперника окрестных ворон и заточил жену в башню. Однако убийством дворянина-миннезингера воспользовалось ненавидевшее Л. духовенство, отлучив энергичного барона от церкви. Л. пришлось отправиться в Рим и там, с большим трудом, ценою полновесных кошельков, добиться возвращения в лоно веры.
Вернувшись домой ещё более ожесточённым, Л. прежде всего решил довести до конца свои счеты с женою. Понадобилось относительно небольшое время, чтобы тюремная диета и режим сделали своё дело... Образ жизни, который Л. вел в это время, и послужил, как можно предполагать, основой всех легенд о его необыкновенных мужских качествах: всякая приглянувшаяся барону девушка немедленно похищалась преданными слугами и приходила в себя в одной из многочисленных комнат замка. Со всеми соседями Л. вел в эти годы непрерывные тяжбы, распри, нередко переходившие в вооружённые столкновения. В борьбе с епископом Гальберштадским он проявил такую зверскую жестокость, что снова подвергся церковному отлучению.
На этот раз для снятия этой тяжёлой кары Л. должен был дать обет принять участие в III Крестовом походе.
Присоединившись со своим отрядом к войскам императора Фридриха Барбароссы, Л. проделал поход до границ Византии. Грабежи и безобразия, чинимые его отрядом, оказались слишком заметными даже на фоне общей жажды обогащения среди крестоносцев. «За своё безбожное и порочное поведение» Л. было отказано в чести состоять в войске, идущем освобождать гроб Господень.
Но судьбе было угодно, можно сказать, в последний момент спасти репутацию нашего рыцаря.
Как известно, император Фридрих Барбаросса утонул в результате судорог ног при купанье в холодной реке Каликадно. Очутившийся в этот момент поблизости Л., по обыкновению пьяный, бросился на помощь императору и немедленно, как ключ, пошёл ко дну.
Этот героический порыв не только привёл к снятию с Л. отлучения, но создал ему ореол героя, с которым он и вошёл в историю. Согласно легенде, Л. вместе с императором Фридрихом Барбароссой сидит за столом в пещере Кифгойзера и ждет лучших времен.
В гарцской народной песне память о бароне Л. живёт до наших дней:
| Бушует ветер. Дождь сечёт. Трепещет в хижинах народ: Вдали звучит свирепый рог! Барон идёт! Спаси нас Бог! Увидит девушку барон — И честь девичью ждёт урон. От жадных Левенстерна глаз Спаси, Господь, несчастных нас! |
(Перевод Р. Полынского)
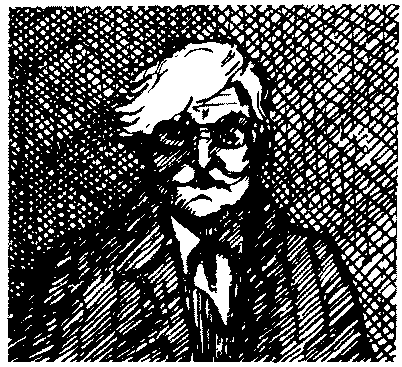
Леко-де-Лягиш родился в Дижоне в семье обедневшего землевладельца. Окончив лицей, он поступил в Нормальную Школу. Здесь Л.-д.-Л. провёл не только годы студенчества, но и прослужил более двадцати лет, начав свою деятельность со скромной должности библиотекаря, став затем ассистентом при кафедре классического искусства и, наконец, читая курс приват-доцентом. Старательный студент и трудолюбивый молодой учёный Л.-д.-Л. пользовался расположением многих крупнейших деятелей французской исторической науки, с которыми он и впоследствии, ведя собственные профессорские курсы в университетах Тулузы и Марселя, сохранял дружеские и учёные связи. В числе его покровителей, доброжелателей и друзей мы встречаем такие имена, как Ипполит Тэн, Фюстель де Куланж, де-Марган, супруги Дьелафуа, Гастон Буасье, Масперо. В статье-некрологе, посвящённой Ипп. Тэну, Л.-д.-Л. с располагающей откровенностью и искренностью рассказывает о своей беседе с престарелым учёным, сказавшим молодому ученику следующие тёплые слова: «Не огорчайтесь так, Морис, по поводу скромности ваших дарований. Наука любит тихих, влюблённых поклонников не меньше, чем удачливых, уверенных и смелых ухаживателей. Эта дама вербует своих адептов столь же энергично, как наш великий император набирает солдат. Ей нужны не только генералы, но и хорошие офицеры и преданные воины. Служите же ей, не гоняясь за чинами и отличиями. Не всякий рядовой становится маршалом, но стать подлинным полководцем может только настоящий солдат — истина, в которой Франция недавно убедилась слишком дорогой ценой...»
И действительно, вся жизнь Л.-д.-Л. протекала под знаком скромного трудолюбивого стремления расширять свои знания и передавать их другим без претензии на оригинальность и новизну взглядов.
Учёный много раз участвовал в археологических экспедициях в Италии и Греции. Его консультациями постоянно пользовались в Лувре и Академии Надписей. Точность его справок ценили специалисты всех стран, работавшие в Риме, Неаполе, Афинах. Он являлся как бы живой инвентарной книгой по классическому искусству и археологии. Однако за пределами узкого круга знатоков Л.-д.-Л. известен был мало. Печатные работы нашего учёного, которых к моменту перелома в его судьбе в 1922 году насчитывалось 112, также свидетельствовали о добросовестности и скрупулезности, но не обнаруживали ни блеска, ни стремления к глубокому синтезу — к обобщению сложных явлений, способных раскрыть существо искусства древних. Об известной ограниченности творчества Л.-д.-Л. говорят и самые названия его работ: «О формах стеклянных сосудов, встречаемых в раскопках в Италии, в сравнении с формой стеклянных сосудов, найденных в раскопках в Греции», или «О датировке реставрации щёк, ушей и части прически на голове пленного галла из Марсельского музея», или «К вопросу о различном или едином авторстве так называемой «головы молодой римлянки» и так называемой «головы пожилого римлянина» в Ватикане».
Но вот летом 1922 г. весь мир был поражён результатом скромных раскопок — практикума студентов-археологов Тулузского университета, которые проводились под руководством Л.-д.-Л. Незаметное до сих пор имя нашего учёного сразу заняло место в ряду знаменитейших деятелей науки, наряду со Шамполионом, Шлиманом, Эвансом.
Изучая в окрестностях Сиракуз обнаруженные им остатки частного загородного дома эпохи императорского Рима, Л.-д.-Л. нашёл замурованную кладовую-тайник, которую наполняла коллекция (6 экземпляров) античных картин, написанных на залевкашенных деревянных досках. Да, это были памятники настоящей станковой живописи, предназначенные для украшения жилища, не связанные с системой декоративной росписи, а самостоятельные произведения реалистической школы, раскрывающие жизнь древних во всех её бытовых подробностях, понятные и близкие нашему глазу.
Чтобы оценить потрясающее впечатление, произведённое открытием Л.-д.-Л., следует напомнить о господствовавших, прочно укоренившихся научных представлениях того времени. Общеизвестно, что живописные памятники древности, но сути дела, не дошли до нас. Правда, письменные источники неоднократно упоминают о работах выдающихся живописцев, начиная со знаменитого Апеллеса, столь мастерски изобразившего виноград, что птицы бросались на картину, чтобы поклевать соблазнительные ягоды, и т. п. Но имеющиеся в нашем распоряжении археологические материалы отрывочны и бедны. Беспощадное время поглотило эти шедевры, и фактически наука не знает античной живописи, не может даже приблизительно наметить направление её развития.
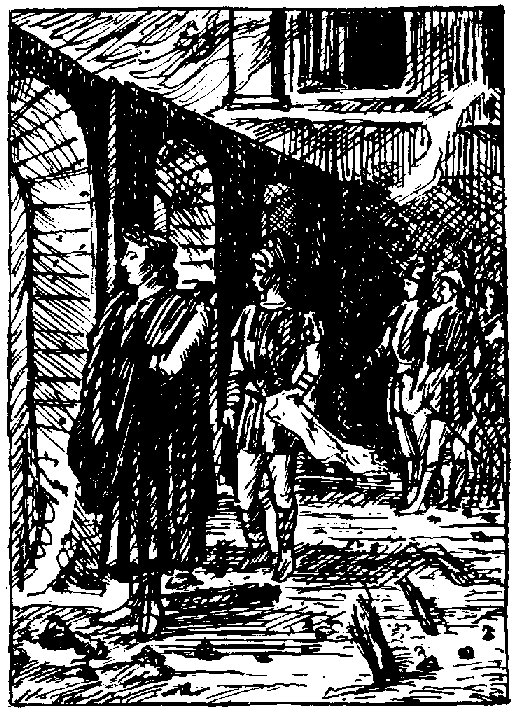
«И вот теперь, — писал в своем знаменитом докладе-отчете Л.-д.-Л., — мы получили возможность заглянуть в этот новый для нас. мир, и он оказался знакомее и роднее, чем можно было предполагать.
Перед нами картина (1 x 0,75) «Нерон, любующийся пожаром Рима».
Мы видим императора-артиста рядом с Тигеллином и группой придворных. Этот чудовищный себялюбец и в то же время самозабвенный эстет жадно вглядывается в бушующее море огня. Его, очевидно, не заботят мысли об организации помощи своим страдающим подданным. Нет, он, вероятно, обдумывает оду... Минута — и император начнет перебирать струны лиры, слагая под их рокот песню-гимн огненной стихии (ил. № 1).

Вот Фемистокл — этот честный, твёрдый демократ и храбрый воин — входит в родной дом, после долгих лет изгнания путём остракизма. Картина (1,5 x 1,5) называется «Non expectaverunt» — «He ждали». Престарелая мать героя, не веря глазам, протягивает — вернее, только хочет протянуть — к сыну руки. Молодая женщина, игравшая на арфе (сестра? жена?), переживает минуты радостного узнавания. За столом сидят завтракающие дети; девочка хмуро смотрит исподлобья на незнакомца; её старший брат-гимназист (гимназист, разумеется, в античном смысле, т. е. отрок из хорошей семьи, посещающий школу спортивных упражнений — γυμνασυ) взирает на гостя с недоумением, хотя в глазах мальчика уже мелькает догадка. Стройная преданная рабыня с удивлением глядит на запылённую фигуру путешественника. Скромную комнату украшают висящие на стене изображения демократических деятелей — Софокла и Клисфена. Яркие лучи афинского солнца освещают эту сцену из жизни либеральной интеллигентной античной семьи...
К сожалению, картина эта находится в очень плохой сохранности (ил. № 2).
Не меньший бытовой интерес представляет собой небольшая (0,45 x 0,37) картина из римской жизни «Сватовство центуриона». Самодовольный воин, наверное, беспутный малый, игрок в карты и завсегдатай цирка и кабачков, уже покручивает ус, уверенный в успехе. Сваха вводит гостя и представляет его хозяевам — разбогатевшему вольноотпущеннику, желающему породниться с отпрыском римских всадников, его тщеславной и глупой жене и кокетничающей дочери, которая делает вид, будто хочет убежать. Молодая рабыня, накрывающая на стол, укоризненно смотрит на свою хозяйку (ил. № 3).
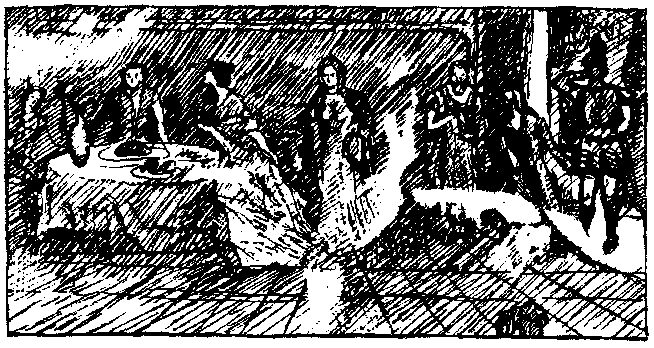
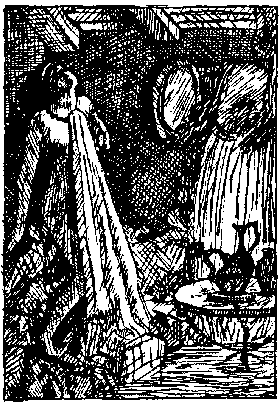
Любопытна полная драматизма композиция, в которой Л.-д.-Л. видит изображение Агриппины, матери императора Нерона, в тот момент, когда её корабль терпит крушение; эта катастрофа, по преступному замыслу её сына, как рассказывает Светоний, должна была привести к гибели честолюбивой женщины. Несчастная вскочила на ложе. Вода вливается в окно каюты, крысы спасаются на подушках... (ил. № 4).
Неудивительно, что столь яркие и, мы позволим это себе сказать, современные образы древней живописи произвели впечатление чего-то не только далекого от античности в привычном о ней представлении, но прямо-таки противоположного античному духу.
Компетентные комиссии подвергли вновь открытые сокровища тщательной, всесторонней экспертизе, исследуя состав красок, природу грунтовки, породы дерева и т. п., и их отчеты представляли собою чрезвычайно подробные технологические характеристики памятников, намечали меры к полной реставрации и сообщали о перспективах дальнейшего изучения, с целью определения более или менее точно эпохи создания этих шедевров.
Тем временем Л.-д.-Л. пришлось услышать немало завистливых отзывов. Говорили, что своей славе учёный обязан не годам систематического труда, а случайной удаче, не знаниям и опыту, а слепому «везенью». В ответ на эти инсинуации Л.-д.-Л. опубликовал статью под названием «Счастье или награда», в которой ярко обнаружилось отрицательное влияние славы на скромного до сих пор исследователя. Самая взволнованность тона, энергическая выразительность эпитетов, наконец, уверенное провозглашение целого ряда спорных общих принципиальных положений — черты, совершенно чуждые прежним выступлениям учёного, — свидетельствовали, что автор был всецело захвачен азартом и раздражением, вряд ли совместимыми со строго научным мышлением.
«Я не могу обойти молчанием, — писал Л.-д.-Л., — развязные рассуждения о «случайном» характере археологических открытий. По мнению этих людей, здесь слепое счастье играет такую же роль, как в какой-нибудь ярмарочной лотерее или в игорных залах Монте-Карло! Будто бы выбор места, учёт бесчисленных, сложнейших, косвенных признаков, строго обдуманный план работы, тщательность всех указаний руководителя — всё это не требует огромных знаний, воли, опыта... Элемент личного счастья руководителя археологической экспедиции значит не больше (хотя, быть может, и не меньше) чем удача руководителя научной лаборатории, направляющего опыты своих сотрудников исходя из уже добытых результатов, но рассчитывающего на основании всей совокупности данных установить новую причинность и закономерность явлений...»
Когда профессор Пиччиоли выступил в печати с серьёзно обоснованными соображениям, что реалистический характер «сиракузских картин Леко-де-Лягиша» чужд традициям античного искусства и что следует с большей осторожностью отнестись к предлагаемым нашим учёным датировкам, определяющим эти произведения как памятники II—III в. до н. э., Л.-д.-Л. немедленно ответил ему в своей новой темпераментной манере:
«Лишь близорукие, но болтливые педанты могут устанавливать воображаемые противоречия в явлениях, которые для них непонятны своей новизной. Только зависть к счастливой деятельности учёных, прокладывающих новые пути и обогащающих науку новыми материалами, позволяет этим Терситам мысли говорить о непримиримости стиля найденных мною картин с характером искусства древних. Разве в своё время не было такой же неожиданностью открытие столь реалистического памятника, как, скажем, изображение дикой кошки в болотных зарослях на фреске из Бени-Хассана? Разве этот шедевр не противоположен бесконечно более распространенным образцам официального иератического египетского искусства эпохи среднего царства? Разве не кажутся нам «современными» так называемые «фаюмские портреты», в которых художники эллинистического Египта соперничают с самыми глубокими живописцами Европы, с величайшими реалистами и психологами? Почему мои противники позволяли себе, говоря об изображениях дочерей Тутхотепа из гробницы в Эль-Верше, сравнивать искусство их создателей с творчеством флорентийских художников Возрождения?..»
Л.-д.-Л. разорвал многолетнюю дружбу с проф. Мейером, когда последний в связи с разгоревшимся спором высказал мнение, что древние не знали перспективы и не владели столь свободной композицией, которая отличает находки «его учёного друга». Л.-д.-Л. писал в ответ, что удивляется, как слушатели проф. Мейера не напомнили своему ментору хотя бы о таком общеизвестном примере, как помпейские фрески: уже там «их близорукий руководитель» мог бы наблюдать «сложную композицию, отличные навыки в изображении перспективы и уменье передать объём чисто живописными приёмами».
Полемика разгорелась с ещё большей силой после напечатания проф. Прайсом статьи «Истина должна быть единой». Проф. Прайс доказывал множеством примеров, что главенство архитектуры и скульптуры в античном искусстве было закономерно обусловлено всем социальным строем и всем характером жизни древних; живопись в этих условиях отставала («а не забегала вперёд, как думает проф. Леко-де-Лягиш»), ограничиваясь декоративными задачами. Поэтому открытые знаменитым археологом картины он — Прайс — склонен понимать как какое-то локальное явление, не могущее иметь широкого распространения. Л.-д.-Л. ответил статьей «Миражи науки», являющейся вызовом установившимся взглядам и традициям. Он обличал «сказки тысячи и одной ночи», к которым, по его мнению, принадлежит большая часть описаний археологических открытий. Он издевался над спорами учёных, толкующих одни и те же памятники или тексты прямо противоположным образом.
«Одни из них называют раскопки Кносса или Феста «Критскими королевскими дворцами», а другие — примитивными родо-племенными поселениями. Одни видят в найденной там фигурке элегантную «статуэтку придворной дамы», другие — лишь вотивное изображение — свидетельство прочности отсталых матриархальных отношений. Один историк на основании текста евангельской «притчи о талантах» приходит к выводу, что ранне-христианские общины были организациями богатых торгово-промышленных кругов, ибо «мораль подобной басни мила только душе ростовщика», другой — убеждён в противном: это были бедняки; ведь лишь те люди, которые никогда не видели денег, кроме нескольких медных монет, могут называть такие фантастические суммы; их и в наше время никто, мол, не оставит не только в распоряжении раба, но просто управляющего даже большим хозяйством ».
Л.-д.-Л., сам автор множества работ, посвящённых частностям и подробностям, упрекал теперь своих коллег в узости, косности и неуменье обобщить факты. Он иронически предлагал Прайсу прежде чем строить выводы о характере античной скульптуры, понять «тот элементарный факт», что это искусство отнюдь не было монолитным, наоборот, являлось сложным и противоречивым, что в Афинах в эпоху творчества Фидия и Праксителя расцветала народная терракотовая скульптура ярко выраженного реалистического стиля, не только отличающаяся от искусства названных мастеров, но прямо ему противоположная, его пародирующая.
Л.-д.-Л. утверждал, что самым верным изображением взглядов и споров современных археологов является шарж Сальвадора де Мадариага — известный роман «Священный жираф». В нём рассказывается, как через несколько столетий учёные новой расы изучают материальные остатки нашей погибшей цивилизации. Они приходят, например, к заключению, что найденная в раскопках явно архаическая скульптура с надписью «Эпштейн» была создана многими веками раньше, чем изящная фигурка, подписанная именем «Донателло»; полотно с нагромождением непонятных примитивных форм, подписанное «Пикассо», должно было на несколько столетий предшествовать созданию картины с подписью «Рембрандт», так же, как грубые стихи, созданные Киплингом, только через века могли смениться изысканным творчеством некоего Шекспира, написавшего столь изящные сонеты. Л.-д.-Л. совершенно серьёзно ссылался на то место романа, где приводятся вполне логичные на первый взгляд, но, по существу, чрезвычайно наивные рассуждения археологов: найдено множество предметов, представляющих собой своеобразный оптический аппарат, служивший для исправления недостатков зрения, частых, по-видимому, среди представителей исчезнувшей расы. Это различной шлифовки стеклышки, вставленные в разнообразные оправы, в зависимости от достатка обладателей — черепаховую, золотую, серебряную, железную и т. д. Попадаются и одиночные стеклышки безо всякой оправы, очевидно, служившие беднейшим классам (т. е. монокли!).
«Силлогизмы моих противников, — писал наш автор, — столь же убедительны. Но взгляните на дело непредубеждённым глазом и вы поймете, что события должны были выглядеть именно так, как они изображены на найденных мною картинах. Вот римские воины-ополченцы, запечатленные в тот момент, когда легионы погружаются на биремы, чтобы отправиться в поход против Карфагена, к берегам Африки. Это крестьяне-воины, прощающиеся с семьями, люди, кровно связанные с сохой, со своим наделом, те, кто завоюет весь мир. Это их жены, дети, отцы, матери — великолепные представители populus Romanus. При взгляде на картину сразу понимаешь, что составляло силу Республики! (ил. № 5).

Посмотрите на «Переход Ганнибала через Альпы», на лица карфагенских солдат, полные энтузиазма, на физиономии воинов союзных варварских племён, на стремительную фигуру гениального полководца, с высоты боевого слона призывающего войска к бесчисленным победам (ил. № 6). Правда, говорят, что скатывающиеся таким образом с крутой скалы воины наколют друг друга на копья, как жуки на булавки, что тяжёлая катапульта, сорвавшись, раздавит людей, что слон Ганнибала обрушится в пропасть и т. д. Но это домыслы кабинетного порядка. Карфагенское войско терпело лишения не рассуждая, а действуя и побеждая (ил. № 6)».
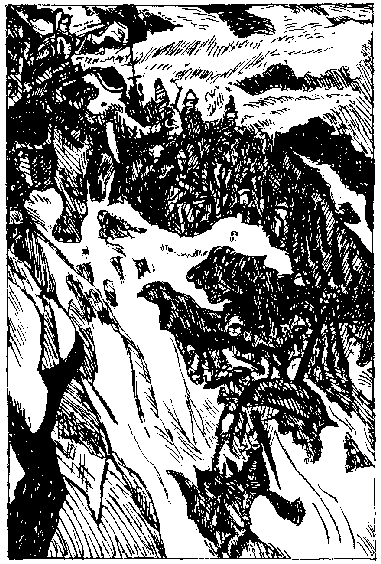
Скоро, глубоко расстроенный растущим скептицизмом научных кругов, с каждым месяцем всё более омрачавшим его славу, Л.-д.-Л. подпал под власть навязчивой идеи, которую в нормальном состоянии его ум, несомненно, отверг бы: он решил начать новые раскопки с целью найти подтверждение своим взглядам, как будто подобные находки встречаются постоянно. Уже был назначен срок его отъезда в Грецию, когда престарелый учёный внезапно скончался от разрыва сердца. Непосредственной причиной его гибели послужил свежий номер журнала «L'Arls et le Beau», в котором была напечатана статья «Выразительные аналогии», украшенная репродукциями найденных Л.-д.-Л. античных картин с параллельным сопоставлением воспроизведений работ русских живописцев XIX в., действительно подозрительно близких к своим «прототипам».
Нам остается только добавить, что самое тщательное исследование найденных Л.-д.-Л. памятников, как и мест их находки, не даёт ни малейшего основания подозревать покойного учёного в мистификации. Его многолетняя научная деятельность — пример безупречного служения любимому делу.
Что же касается судьбы открытых им произведений — можно сказать, что их до сих пор окружает тайна.
Если это не подлинные вещи, то кто их создал? Кому понадобилось замуровывать их в развалинах древней виллы?
Кто мог знать, что в 1922 г. в данном месте начнутся раскопки?
Но, с другой стороны, разве можно допустить предположение, что, спустя много веков, столь таинтвенно и полно совпали бы образы, созданные художниками разных культур и стран?
(*) Populus Romanus — Римский народ (лат.). — Примеч. ред.
(*) «L'Arls et le Beau» — «Искусства и прекрасное» (фр.). — Примеч. ред.
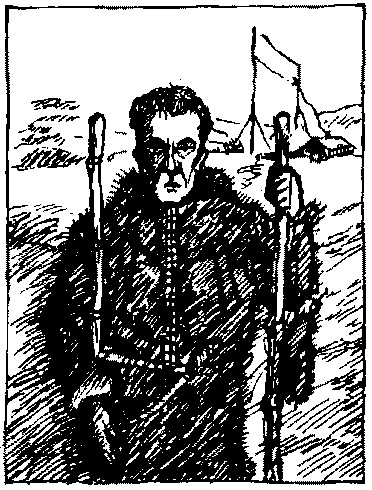
Немного людей испытали в своей жизни столь резкие контрасты, как это было суждено пережить доктору Эстебану Лигейро, который, подобно блестящему метеору, промелькнул на небе науки наших дней.
В течение года он представлялся современникам величайшим изобретателем, настоящим благодетелем человечества, славой науки и вдруг был низвергнут в полное ничтожество, став жалким шарлатаном для всех тех, кто недавно почитал его как гениального экспериментатора; память о Л. исчезла столь же внезапно, сколь неожиданно возникла его эфемерная известность.
Л. родился в г. Мехико (Мексика) в семье аптекаря. В 1915 г. он окончил медицинский факультет Калифорнийского университета, где и был оставлен ассистентом при кафедре биохимии.
Выдающиеся способности молодого человека нашли своё выражение в целом ряде остроумных опытов по выделению витаминов А и Д, обративших на себя внимание специалистов.
Но, очевидно, Л. интересовался наукой, руководствуясь отнюдь не только стремлением к познанию истины; он быстро учёл, что на этом пути нельзя надеяться на скорое обогащение. Вот почему исследователь покинул alma mater и в 1923 г. поступил в лабораторию известной парфюмерной фирмы «Eternal Beauty» («Вечная красота»), принадлежавшую Стейеру и Фоскатти.
Продолжая здесь свои опыты, Л. уже в 1924 г. достигает крупных успехов, предложив новое средство для выведения веснушек — «Антифреклин» (от английского слова «freckles» — веснушки), получившее признание в Америке и в Европе.
Затем в течение нескольких лет Л. проводит секретные изыскания, завершившиеся подлинным триумфом, стремительно принесшим учёному буквально мировую славу: в 1930 г. Л. выступил с публичными разъяснениями по поводу своего нового средства — «Лигейро Альбина», превращающего негров в белых, запатентованного фирмой «Eternal Beauty».
Сущность изобретения Л. сводится к следующему.
Тёмная окраска кожи негров зависит от наличия в протоплазме клеток их кожи микроскопических зернышек чёрного пигмента меланина (греч. μελανοσ — чёрный). Пигмент этот широко распространен в органической природе, встречаясь у самых различных животных как в чистом виде, так и в комбинации с некоторыми другими красящими веществами.
Л. долгое время детально изучал химические превращения, связанные с образованием и распадом меланина. Эти исследования позволили ему выделить несколько различных путей внутриклеточного разрушения указанного пигмента.
Мы не имеем возможности с полной точностью изложить всё существо способа, избранного в конце концов Л. К сожалению, оберегая тайну своего средства, Л. никогда не освещал своих работ с должной подробностью и точностью. Из отдельных намеков и весьма неопределенных указаний Л., разбросанных в его статьях, представляющих собой странную смесь рекламы и научности, мы можем предположить, что главное внимание Л. при разработке его средства было уделено четырём основным направлениям.
Первое из этих направлений шло по пути приложения к области депигментации методов классической иммунологии, несомненно носящих влияние идей русского учёного А. А. Богомольца о специфических цитолитических (разрушающих клетки) сыворотках. Вводя чистый меланин животным-альбиносам, Л. рассчитывал, что меланин для этих животных является чуждым их организму веществом и введение его должно вызывать у них в крови появление специфических антител — мелано-лизинов — веществ, растворяющих меланин. Опыты Л., видимо, показали плодотворность этой идеи.
Следующая серия исследований Л. заключалась в стремлении найти пути чисто химического обесцвечивания меланина. В этой связи он писал об общеизвестных фактах, говорящих о том, что целый ряд красящих веществ может существовать в двух состояниях — в виде бесцветной «лейкобазы» и в виде «аппарентного» (явного) пигмента. Большей частью эти переходы в то или иное состояние связаны или с восстановительно-окислительными реакциями, или с изменением активной реакции среды.
Использование реакций этого типа в условиях внутриклеточного обмена представляло, естественно, чрезвычайные трудности, и, если Л. действительно сумел преодолеть их, как он на это намекает, следует отдать должное его поистине огромной изобретательности, во многом опередившей современное его открытию состояние науки.
Третий путь поисков, по словам Л. также приведший его к положительным результатам, заключался в попытке выделения и концентрации фермента МЕЛАНИНАЗЫ, играющего постоянную физиологическую роль в расщеплении меланина в отмирающих клетках организма.
Наконец, Л. не оставил без внимания и гормональные влияния на процессы, связанные с обменом пигментов в организме.
Интерес его к этой стороне дела был вызван известным опытом с действием гормона щитовидной железы — тироксина — на образование пигмента у птиц. Опыт этот действительно очень эффектен. После однократного введения чёрной курице (чёрный леггорн или ланглан) массивной дозы тироксина она через несколько дней начисто линяет, теряя абсолютно все свои перья; спустя короткое время у неё отрастают новые, совершенно лишённые всяких следов пигмента, снежно-белые перья.
Как можно судить по чрезвычайно туманным указаниям Л., он, видимо, чисто эмпирически подобрал в своем средстве в определенных пропорциях и мелано-литическую сыворотку, и меланиназу, и тироксин, и вещества, чисто химически или физико-химически обесцвечивающие меланин. Этой смеси он и дал столь нашумевшее название «Лигейро Альбина».
Л. поведал историю своих экспериментов.
Первым человеком, согласившимся подвергнуться опыту за 10 000 долл., был старик негр, 65 лет, швейцар фирмы «Eternal Beauty» — Авраам Вашингтон Линкольн Вильсон. После соответственных впрыскиваний препарата Л. он в течение двух месяцев пребывал в клинике Л., вполне изолированной от внешнего мира. В конце этого периода он вернулся к семье и вскоре появился на работе, превратившись в «белого джентльмена», как он с гордостью называл себя сам.
Затем опыт был повторен на его жене Сарре Элеоноре Элизабет, 57 лет, которой было уплачено 5000 долл. Результаты оказались ещё более быстрыми и блестящими. Теперь, и на этот раз без дополнительного вознаграждения, в распоряжение Л. представили себя дети указанных супругов, работавшие младшими служащими той же фирмы — Джордж Эдиссон Вильсон, 25 лет, и Элизабет Джудит Вильсон, 18 лет.
Действие состава «Лигейро Альбина» на молодые организмы (очевидно, в связи с более энергичным обменом веществ) шло гораздо активнее: новые «белый джентльмен» и «белая леди» вернулись из клиники уже через полтора месяца.
Фирма «Eternal Beauty», как выше было сказано, теперь запатентовала средства Л. и организовала великолепно оборудованный «Лечебный кабинет д-ра Либейро», где за гонорар в 2000 долл. любой негр мог приобрести окраску кожи человека белой расы.
В течение 1930—1931 гг. через «Лечебный кабинет д-ра Либейро» прошло значительное количество пациентов, в том числе чемпион бокса Арчи Диксон, писатель
Джек Стоке, артист Нью-Йоркской оперы Исаак Стэрди, сын миллионера Грейна, известная певица и танцовщица Полли Прейс и многие другие.
М-р Исаак Стэрди разрешил «Eternal Beauty» использовать для рекламы «Лечебного кабинета д-ра Либейро» свои цветные фотографии до и после вспрыскивания нового препарата, каковые мы и воспроизводим в настоящем издании (ил. № 1 и 2).
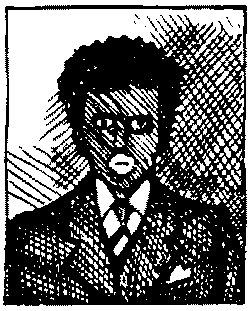 Иллюстрация № 1 |
 Иллюстрация № 2 |
Изображение знаменитого артиста разошлось по всему Американскому континенту, прославляя нашего изобретателя, достигшего столь поразительных результатов. Естественно, что успех дела позволил фирме «Eternal Beauty» уже через полгода после открытия «Лечебного кабинета» снизить оплату за курс лечения до 1000 долл.
Однако удача Л. таила в себе опасности, масштабы которых обнаружились ещё в конце 1930 г.
В то время как либеральная часть общества приветствовала изобретение Л., «дающее возможность нашим чёрным братьям по собственному желанию менять цвет кожи» и кое-какие нападки наблюдались только по адресу фирмы «Е. В.», «превращающей в средство своего обогащения великое открытие д-ра Лигейро, долженствующее стать общедоступным», консервативная печать Америки объявила «Лигейро Альбину» настоящую войну. Большинство газет южных штатов и значительное количество влиятельнейших органов печати Севера утверждали, что опыты Л. носят характер вызова всему социальному устройству США и противоречат исконному естественному порядку вещей, стремясь внести равенство в область, в которой оно исключено самим Богом. «Кому позволено снять печать с потомков Каина, если Всевышний сам заклеймил их этим знаком?!» — вопили реакционные и клерикальные газеты и ораторы.
Конечно, на первых порах эта враждебная кампания с коммерческой точки зрения лишь укрепляла славу «Лигейро Альбина», создав необычайную рекламу новому изобретению. Но скоро дело изменилось: фирма «Eternal Beauty» стала получать грозные предупреждения, начиная от анонимных писем вызывающего содержания и кончая посылками с адскими машинами; затем последовали две попытки поджога «Лечебного кабинета д-ра Лигейро» в Нью-Йорке и взрыв завода «Е. В.» в Мемфисе. Сам Л. трижды подвергся нападению: так, его автомобиль неожиданно оказался повреждённым и потерпел аварию, едва не стоившую жизни изобретателю; коттедж Л. был взорван, по счастливой случайности, через пять минут после отъезда хозяина; шторы в занимаемом им номере отеля «Мейфлауэр» в Нью-Йорке неизвестные злоумышленники пропитали ртутным ядом, действие которого, к счастью, было вовремя замечено негритянской прислугой.
Атмосфера накалялась.
Старшая дочь м-ра Стейнера, главы фирмы «Eternal Beauty», подверглась похищению, и её удалось разыскать только через полтора месяца в одном из весёлых домов самого низкого пошиба в Лос-Анджелесе.
Л. пришлось бежать, и он влачил жалкое существование, постоянно переезжая из города в город под охраной полицейских и частных сыскных агентов.
Изобретатель пытался защититься, опубликовав статью, в которой доказывал своё право «помочь людям стать прекраснее, чтобы тем самым приблизиться к образу и подобию своего творца, ибо нельзя и подумать, что такое приближение мыслимо при сохранении чёрного цвета кожи». Ответом ему было новое (четвёртое!) ночное нападение целой банды мракобесов на отель «Френсис Дрейк» в Бостоне, где гонимый учёный нашёл приют на трое суток. Заговорщики в белых балахонах с капюшонами, закрывавшими им лица, оцепили гостиницу, проникли в номер Л., и изобретатель не избег бы суда Линча, если бы негр лифт-бой, вовремя окунув Л. головою в мешок с углем, не спас бы его в служебном лифте, выдав за своего соотечественника.
Мы приводим один из снимков этой поры из журнала «World Illustration», запечатлевший прибытие окружённого охраной Л. в Новый Орлеан, откуда он тайно выехал в Европу (ил. № 3).
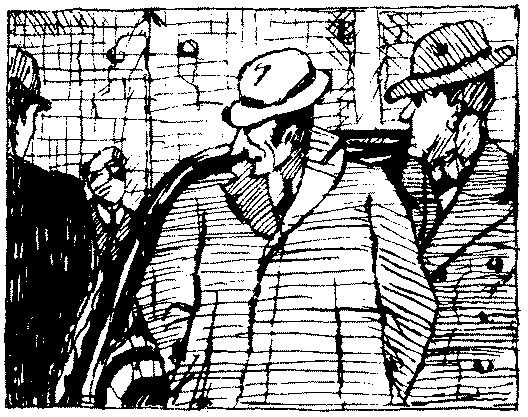
Попытки изобретателя продолжить своё дело в Старом Свете не привели к успеху: во-первых, и здесь американские реакционеры продолжали его преследовать; во-вторых — общественное мнение европейских стран склонялось к той точке зрения, что открытие Л. недостойно поощряет тех, кто считает цвет своей расы позором; защита подлинных человеческих прав предполагает не изменение цвета кожи, а утверждение полного гражданского равенства людей разных цветов.
Л., доведенный до отчаяния, с заметными симптомами мании преследования, в течение 1931—1932 гг. побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Швеции, Дании, Португалии.
В Лондоне, Париже и Стокгольме ему снова пришлось пережить тяжёлые минуты в связи с попытками отравления, похищения и т. д. В конце 1932 г. Л. выступил в печати с заявлением об отказе от своих изобретений.
Но этот шаг не имел серьёзных последствий, т. к. в этот момент случилось нечто гораздо более неожиданное и ошеломляющее, ставшее предметом новой мировой сенсации: все подвергшиеся «побелению» в «Лечебном кабинете д-ра Лигейро» снова стремительно стали менять цвет кожи, пока он не превратился в ярко-зелёный, напоминающий малахит (ил. № 4).
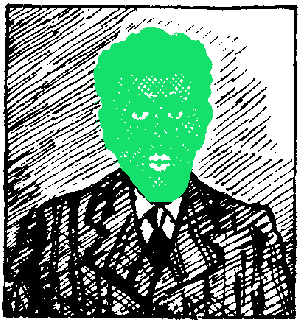
Мы не можем судить о сущности процессов, приведших к столь неожиданным превращениям окраски кожи, т. к. ни одна из несчастных жертв стремления изменить своей расе не согласилась подвергнуть себя специальным исследованиям. Можно сказать, что природа отомстила Л. за внесение поспешности и ажиотажа в раскрытие её тайн, за эмпиризм его методов и принципиальное нежелание дойти до истинной глубины сложнейших явлений интимной химии организма.
Трудно описать радость врагов Л., растерянность учёного и ярость людей, вдруг оказавшихся зелёными, после того как они насладились сознанием своей принадлежности к господствующей в Америке расе белых. Многочисленные судебные иски к Л. ставили изобретателя прямо таки в безвыходное положение. Но ещё опаснее оказались новые покушения, которые на этот раз предпринимались беспощадными участниками «Лиги зелёных мстителей». В этой обстановке Л. внезапно исчез, и общее мнение склонялось к предположению, что он пал жертвой своих прежних пациентов.
Об учёном вспомнили ещё раз в 1938 г., т. к. к этому времени все те, кто были объектами его опытов, стали возвращаться к своей первоначальной окраске. Кольцо замкнулось, и ничто больше не напоминало о сногсшибательных изменениях цвета кожи, испытанных пациентами Л.
В 1940 г. телеграф принес известие о смерти выдающегося экспериментатора. Оказалось, что в 1934 г. Л. получил возможность принять участие в полярной экспедиции и остаться в числе сотрудников её постоянной группы в Антарктиде, где он, наконец, почувствовал себя в безопасности. Здесь добровольный изгнанник совершенно отошёл от интересов своей прежней специальности. Он чувствовал себя сравнительно спокойно, работая практическим врачом крохотной колонии отважных исследователей крайнего юга, любуясь необозримыми, безлюдными суровыми просторами полярной природы.
Здесь Л. и обрел вечный покой в результате воспаления легких. Быть может, печальный исход болезни был обусловлен тем общим упадком духовных сил, который характеризовал покойного изобретателя в последние годы его жизни.
Мы имеем возможность украсить настоящий очерк неизвестной до сих пор фотографией этого гениального неудачника, снятой за год до его смерти.
(*) «World Illustration» — «Всемирный иллюстрированный журнал» (англ.). — Примеч. ред.
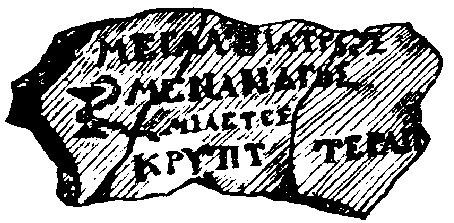
Первые сведения о Менандре Парасангите мы встречаем ещё у Ксенофонта в «Анабазисе» (гл. XII), где говорится: «Отсюда мы прошли пешим походом пятьдесят с лишком парасангов. Во время последних трех дней пути запасы продовольствия пополнять не удавалось. Источники с водой почти не попадались, а в тех, которые мы находили, вода была едва годной для питья, даже для измученных жаждой людей. Менандр оказывал изнеможённым людям образцовую врачебную помощь, пользуя близких к обмороку и страдавших от болей и судорог в ногах воинов открытым им средством — педициллином. Указанное средство благотворно и при внутреннем и при наружном применении. Действие педициллина было поистине изумительным. Даже одноногие, после доброй порции напитка с этим средством и после втирания педициллиновой мази в культю ноги, становились способными не отставать от здоровых».
Нам действительно остается только пожалеть, что безжалостное время погрузило в полное забвение это замечательное, многосторонне действующее средство.
В другом месте «Анабазиса» (гл. XIV) мы читаем: «Великий царь персов, до которого дошли слова о деяниях и исцелениях Менандра, направил нарочитого посла, снабдив его свободным пропуском через линии войск, дабы доставить Менандра к своему двору, ибо дочь царя мучилась родами, варварские же лекари не могли ей помочь. Менандр ещё раз доказал своё искусство. При помощи известной только ему смеси крепких ароматических паров он погрузил дочь царя в безболезненный сон и, усилив родовые схватки педициллином, довел роды до успешного разрешения живым младенцем. Великий царь наградил его пятью тысячами драхм золотом и с почётом доставил обратно».
После возвращения в Грецию вместе с Ксенофонтом М. исчезает во тьме истории. Так принято было думать до сих пор. Однако раскопки 1930-х гг. в Милете и его окрестностях неожиданно дали нам новые сведения об этом замечательном деятеле античной медицины. Во время этих раскопок были обнаружены остатки целого комплекса больших зданий, которые при ближайшем ознакомлении с ними были признаны истинным прототипом крупных современных санаториев. У врат главного двора найдена каменная доска с именем Менандра и краткой надписью (изображение доски воспроизведено в начале настоящей статьи, как археологическое свидетельство существования М., так как, к сожалению, изображений его не сохранилось).
Текст читается эпиграфистами следующим образом: «Великий врачеватель Менандр Милетский. Полная гарантия врачебной тайны».
Кроме того, на месте этого санатория найден пергаментныи свиток, представляющий собою список пациентов. Анализ этого списка позволяет предположительно датировать его 326 г. до н. э. Любопытно, что в числе пациентов был, видимо, всем известный великий афинский политик и оратор. Сделать такой вывод заставляют слова: «ωχετυ 'ςγγελετν 'Αυηναί οισ'οτί υηοευ Δημόδυενεσ...»
Раскопки обнаружили также ряд надписей-изречений, характера правил лечения или наставлений для здоровой жизни, как например:
1. «Если твои средства позволяют, то живи широко, питайся обильно и не стремись к скаредной экономии. Небольшие расстройства пищеварения и дискразии ты всегда устранишь в лечебнице Менандра».
2. «Воздержание и диетическое питание не делают человека ни сытым, ни счастливым».
3. «Только сытый человек доволен существующим, голодный же всегда склонен к мятежу».
Эти надписи и прочие материалы позволяют судить, что основной сферой научно-врачебных интерсов М. в этой стадии его жизни были вопросы питания здорового и больного человека на основе учения Гиппократа о гармониях и дисгармониях смешения жизненных соков.
О последних годах жизни и о смерти М. нам ничего не известно. Мы полагаем, однако, что и приведенных данных достаточно, чтобы характеризовать М. как одного из великих врачей Древней Греции, достойного занять место непосредственно вслед за Гиппократом.
(*) Среди афинян следует назвать и Демосфена (греч.). — Примеч. ред.
(*) Дискразия — неправильное смешение соков организма, согласно указанию Гиппократа.

Уолтер Монкс родился в Оттаве (Канада) в семье конторщика. Сразу по окончании колледжа он был призван на военную службу. Принимал участие в боях во Франции.
Ещё на фронте М. начал выступать в концертах, исполняя песенки и акробатические танцы, сначала в своем полку, потом в канадских соединениях и, наконец, в различных частях союзных войск.
После демобилизации М. переезжает в США. Здесь он быстро приобретает известность в качестве эстрадного артиста. Сниматься в кино М. начал с 1922 г.
Обладая превосходными внешними данными типичного англо-сакса — мужественным и привлекательным лицом, отличной фигурой, выдающимися спортивными навыками, элегантной манерой носить костюм, — М. с каждым новым выступлением умножал свою популярность. Это ярко доказывается тем красноречивым фактом, что в 1929 г. в США было распространено 1,5 млн экземпляров портретов артиста, в 1932 г. — 2,5 млн, в 1937 г. — 4,5 млн.
Природная культурность позволяла М. легко вживаться в самые разнообразные роли, всегда сохраняя в то же время свойственный ему артистический характер. Главную особенность профессионального обаяния артиста составляло сочетание драматических способностей с авантюрно-спортивной традицией американского киноискусства.
Первой большой ролью М., сыгранной артистом с уже установившимся мастерством, была роль лесоруба Джонни по прозванию Большой Кулак в фильме «Золотоискатели» (1926 г.). Знаменитые сцены погони Джонни за своей невестой, похищенной шайкой разбойников, через воды реки св. Лаврентия во время весеннего разлива принадлежат к выдающимся достижениям этого жанра.
В 1927 г. М. играет героя картины «Таинственная шхуна» шкипера Билль Короткий Клинок, добиваясь эффектного использования всех возможностей, заключённых в теме жизни на корабле. Целое действие, например, занимал захватывающий эпизод смертельной борьбы Билля с двумя мерзавцами-бунтовщиками, пытавшимися похитить его невесту, на грот-мачте, сопровождавшийся сложнейшими и опаснейшими трюками на снастях.
В 1928 г. М. снимается в фильме «Юность в дыму» в роли лейтенанта Броуверса, требовавшей прежде всего психологического мастерства.
Артисту удалось создать типичный образ представителя молодого поколения англичан 1914 — 1918 гг., обречённого на тяжкие испытания войны. Рукопашные схватки, преодоление всевозможных опасностей на полях сражений, разведка неприятельских позиций, странствия в тылу противника, похищение из немецкого плена невесты Броуверса — француженки, сёстры милосердия — всё это легко и одушёвленно проделывалось М.; он заставлял зрителей забывать о том, что перед ними экран, а не самая жизнь.
В том же 1928 г. М. впервые участвует в историческом фильме «Королевская охота», исполняя роль друга короля лорда Кэнтервилла. Исторические коллизии XVIII в. — борьба короля и парламента с заговорщиками — якобитами — составили благодарный фон для целого ряда увлекательных приключений. В особенности запоминалось зрителям преследование заговорщиков в вересковых болотах и горах Шотландии, после того как они похищали невесту Кэнтервилла леди Кэстлвуд.
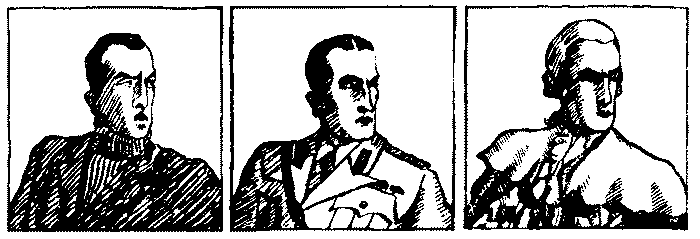
| У. Монкс в роли лесоруба Джонни («Золотоискатели») 1926 г. |
У. Монкс в роли лейтенанта Броуверса («Юность в дыму») 1928 г |
У. Монкс в роли лорда Кэнтервилла («Королевская охота») I928 г. |
В следующем 1929 г. наш артист берётся за чрезвычайно ответственную драматическую роль графа Вронского в картине «Вихрь страсти» по роману Льва Толстого «Анна Каренина».
Характер фильма, посвящённого сложным душевным переживаниям, обязывал М. найти новые средства для выражения глубоких и напряжённых эмоций.
Талантливому актёру удалось добиться захватывающего воздействия в сцене офицерских скачек со всевозможными неимоверными препятствиями, на которых Вронский берёт приз в присутствии императора (редакция фильма несколько отличалась от текста романа). Главный интерес, бесспорно, представляли прославленные заключительные сцены погони Вронского за своей возлюбленной, в отчаянии собирающейся покончить с собой, бросившись под поезд.
Вронский мчится на тройке через всю Москву, преодолевая разнообразные, коварные препятствия, воздвигаемые на его пути преступной рукою Каренина — бывшего нелюбимого мужа его милой Анны, пока, наконец, последний не падает жертвой собственного злодейства: лассо, брошенное им со стены Кремля, соскальзывает с шеи Вронского, цепляется за бешено несущуюся коляску и увлекает негодяя в Москва-реку. (Трагический конец романа в фильме был несколько изменён.)
В звуковом фильме М. впервые выступает в 1929—1930 гг. Выразительный грудной голос и общая природная музыкальность увеличили заслуженный успех артиста. Следует добавить, что эта картина «Объятия куртизанки», посвящённая воспроизведению блестящей страницы истории — жизни великого государственного деятеля Древней Греции Перикла, — создавалась с огромным размахом, при участии лучших специалистов. Роль Аспазии, со свойственным ей очарованием, исполняла Глория Свенсон. М. — Перикл — создал незабываемый образ просвещённого вождя афинской демократии. Особенно сильное впечатление оставляли сцены ночной погони Перикла за низким демагогом Клеоном по крутым склонам Акрополя. Бешеная скачка колесниц, заканчивавшаяся эффектным свержением их в море, залитое лунным блеском, на фоне сверкающих мрамором колонн вечных памятников бессмертной греческой архитектуры, принадлежит к числу шедевров кинематографии.
С 1931 г. М. к лаврам артиста присоединяет лавры сценариста и режиссёра. Он ставит фильм «Боярышня и царь» по роману А. Толстого «Князь Серебряный», в котором исполняет роль князя Серебряного.
Несомненно, отчасти под влиянием экспрессионистической манеры немецкого искусства даются в этой картине такие эпизоды, как сцены пира царя Ивана Грозного с опричниками во дворце Александро-Невской слободы под Москвой во время «поцелуйного обряда» или преследования князя Серебряного и его невесты конным отрядом патриарших дьяконов, которых играли лучшие ковбои Техаса, для заточения счастливых любовников в монастырь. (Роман подвергся автором сценария некоторой творческой переработке.)
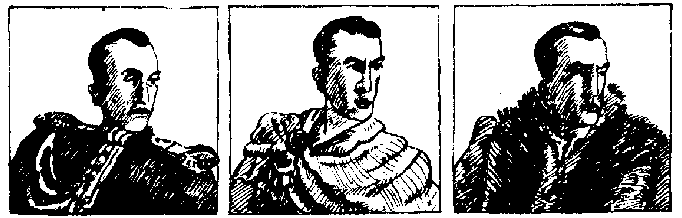
| У. Монкс в роли графа Вронского («Вихрь страсти» по роману Л. Толстого «Анна Каренина»), 1929 г. |
У. Монкс в роли Перикла («Объятья куртизанки»), 1930 г. |
У. Монкс в роли князя Серебряного («Боярышня и царь» по роману Л. Толстого «Князь Серебряный»), 1931 г. |
Фильмы, созданные М. в 30-е гг., ещё слишком памятны всем, чтобы о них следовало подробно распространяться. Перечень ролей сам по себе свидетельствует о широте диапазона талантливого артиста: инспектор полиции Гаррис — «Джек-потрошитель», почтальон Черри — «Ночной дилижанс», сын миллионера Дик Митчелл — «Любимица Фриско», сыщик «Мефистофель» — «Фауст из Чикаго», магараджа Пандарбура — «Тайна шёлковой петли».
Особое место занимает обошедший экраны всего мира цветной фильм «Пир славы», в котором знаменитый артист играл роль Наполеона.
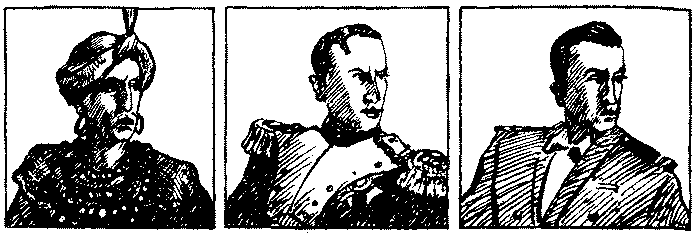
| У. Монкс в роли магараджи Пандарбуры («Тайна шёлковой петли»), 1935 г. |
У. Монкс в роли императора Наполеона («Пир славы») 1936 г. |
У. Монкс в роли лейтенанта О'Брайена («Остров, где разбиваются сердца») 1938 г. |
Последним фильмом М. был общеизвестный «Остров, где разбиваются сердца», а последней ролью — роль лейтенанта О'Брайена в этой картине.
Как известно, М. утонул в бассейне во время съёмки «Острова, где разбиваются сердца»: сильный поток воды сорвал аварийный мостик и ударил им артиста, который в течение нескольких минут, оглушённый, в полубессознательном состоянии, продолжал бороться за свою жизнь.
Оператор Крукс, не в силах помочь утопающему (он вертел ручку аппарата, будучи привязан к специальной площадке, скользящей по рельсу, укреплённому к потолку ателье), заснял отчаянные усилия М., его последние движения.
Это было одной из причин, обеспечивших фильму сногсшибательный мировой успех.

В начале XIX в. в Японии, находившейся под властью сеогунов, резко углубились феодальные противоречия. Везде — и в городах, и в деревнях — царили волнения. Недовольство существующим порядком охватило и самураев, как состоявших на службе, так и свободных воинов — сословие, приобретавшее всё больший вес. Это, в свою очередь, заставляло и местных владетельных князей, когда-то являвшихся опорой сеогуната, но теперь видевших неизбежность падения существующего строя, сближаться с общим народным движением. Таким образом, всё вело к широкому объединению всех недовольных — крестьян, самураев, князей, городской буржуазии — под лозунгом возвращения к старым японским порядкам — к восстановлению власти микадо и к уничтожению сеогуната. Настроения такого рода нередко встречались и среди придворных слоёв.
Одним из лидеров этого направления был и Нисики-Коодзи Такамаро, видный дворцовый сановник, отец знаменитого артиста. Нисики-Коодзи Такамаро организовал союз крестьянства и «ронни» — «вольных самураев» с целью вооружённого свержения власти сеогуна. Этот заговор был обнаружен накануне дня, назначенного для восстания. Нисики-Коодзи Такамаро убили агенты сеогуна (1819 г.), партия его распалась. Жена сановника спаслась от расправы бегством и с помощью верного слуги Тасуке укрылась в деревне Яасе. Здесь в марте 1820 г. она родила мальчика и тотчас скончалась. Мальчика назвали Кикумаро, т. е. «мальчик-хризантема». Чтобы избежать преследования клевретов сеогуна, ребёнка воспитывали, как девочку: мужскому потомству заговорщиков всегда грозила гибель.
В 1823 г. гонение на недовольных усилилось. Тасуке с женою вынуждены были бежать. С грустью отдал старый слуга маленького сиротку знаменитой гейше Ячиё, любимице покойного сановника Нисики-Коодзи Такамаро. Ячиё немедленно оставила профессию гейши и вернулась к своему отцу, художнику школы Сидзё, — по имени Хори Сыуну. Рядом с мастерской Сыуна Ячиё открыла танцевальную школу. Она была энергичной женщиной, убеждённой сторонницей микадо, мечтавшей сделать из своего приёмыша, в соответствии с желанием его отца, образованного политического деятеля. Мальчика держали в строгости, заставляли много учиться и стремились воспитать в нём воинскую доблесть усиленными упражнениями в фехтовании и верховой езде. Друзья отца не могли помочь в воспитании Нисики-Коодзи: постоянные преследования сеогуна лишали сановников двора микадо свободы передвижения, за ними следили, их разоряли.
В мальчике рано заговорили наследственные задатки: род его по материнской линии насчитывал ряд выдающихся поэтов, а со стороны отца — трёх знаменитых каллиграфов. Искусство влекло ребёнка с самых ранних лет. Вот почему в числе воспитателей Н.-К. оказались мастера-миниатюристы, керамисты, специалисты по разрисовке тканей, лаков, фарфора. В школе Ячиё он постоянно видел учителей музыки и танцев; он играл с девочками — ученицами своей приемной матери и незаметно вместе с ними выучился и этим искусствам.
Очень рано мальчик начал страдать от внутренней борьбы: долг требовал от него интереса к государственным делам, требовал, говоря европейским языком, спартанских упражнений, приобретения военных навыков, а чувство — тянуло к искусству, к наслаждению прекрасным и к труду над ним. Нисики-Коодзи всё больше увлекался живописью и танцами, Тасуке, время от времени возвращавшийся в столицу, заходил повидать мальчика и не раз упрекал его за то, что он будто бы забыл волю отца и плохо готовит себя к будущей деятельности самурая. Но Н.-К. с годами всё более укреплялся в решении служить красоте.
Когда ему было 8 лет, было замечено, что он пренебрегает книгами по военному делу или по вопросам морали, но жадно рисует карикатуры.
Однажды Хори Сыун, рассердившись, посадил его за это в чулан. Но мальчик, заметив на полу лужицу своих слез (увеличившуюся в результате прочих несчастий, приключившихся с ним от обиды), стал рисовать, размазывая влагу по полу. Он изобразил этим способом кошку и мышь. Старику Сыуну, заглянувшему в чулан, показалось, что эти животные кусают его питомца за ноги, так живо они были изображены.
Верно это или нет, но подобный рассказ чрезвычайно характерен. После этого случая мальчику разрешили рисовать сколько угодно, и он развивал свой талант необыкновенно быстро.
В 1831 г. в Киото состоялся конкурс танцев. Н.-К. выступал здесь, одетый девочкой. Он исполнял танец девочки — работницы соляных промыслов, старинный танец, созданный известной школой Хигасняма, за который получил первую премию.
Через год Н.-К. стал помощником своей воспитательницы. Он добился больших успехов в музыке, играл на кото (род домры), на флейте и особенно выразительно на самисене (струнный инструмент). Он музицировал даже холодными ночами под открытым небом: ведь серенады гейшам часто поют по ночам; надо приучать пальцы к холоду. Скоро Н.-К. сам стал сочинять музыкальные пьесы. В то же время он продолжал заниматься рисунком и живописью и в 1835 г. принял участие в украшении шинтоисского храма Ясака, написав картину «Кабан», за которую получил высшую премию. Картина Н.-К. представляла собой попытку соединить достоинства разных школ — японских Сидзё и Тоса и северо-китайской, с её мужественной и грубоватой манерой. В те времена в искусстве столицы господствовали несколько застойные вкусы, преобладало увлечение подробностями, и этот смелый опыт смущал многих; сам автор также не чувствовал себя вполне уверенным. Картина была показана, между прочим, одному охотнику, другу старого Тасуке, который сказал: «Этот кабан — при последнем издыхании. А художник, наверное, воображал, что изображает яростного молодого кабана». Услышав об этом, Н.-К. сейчас же полетел в деревню к охотнику, чтобы выяснить свою ошибку. Оказалось, что первым признаком воинственного состояния здорового кабана является стоящая дыбом щетина на загривке. На картине же щетина лежала вдоль спины, как это бывает либо у старого, либо у больного животного. Н.-К. из этого случая сделал вывод о своём дальнейшем пути: надо изучать природу, рисовать с натуры.
Н.-К. собрал хорошую коллекцию японской цветной гравюры и европейской гравюры; последнюю он доставал у купцов, связанных с голландскими фирмами. Он часто делал многочисленные зарисовки характерных поз и движений своих учениц в школе танцев. Учась у японского врача Огата Таихаку, — а только врачам разрешалось в те времена учиться голландскому языку, — Н.-К. усвоил элементы европейской культуры. И в дальнейшей своей художественной деятельности Н.-К. старался сочетать родную японскую традицию с достижениями западноевропейской мысли.
Следует напомнить, что все эти занятия Н.-К. вёл под видом девушки и в 16 лет он получил известность как блестящая танцовщица и ослепительная красавица. Только немногие единомышленники Ячиё по политическим взглядам знали эту тайну её воспитанника.
Н.-К. обладал удивительным чувством ритма и красотою движений своего тренированного тела. Учитель «Садоо» (этикета чаепития) говорил о нём: «Он объединяет очарование женщины со спокойствием мужчины. В нём находит своё выражение совершенная гармония. У него нет недостатков. Он как бы воплощает в себе уверенность умудрённого пожилого человека, прожившего половину столетия, с порывистостью юноши 16 лет».
Гуляя по улицам в женском платье, Н.-К. приносил домой полные рукава любовных записок. Не только общее восхищение мужчин, но поклонение многочисленных женщин, любящих хорошеньких девушек, постоянно окружало его.
Юные ученицы школы Ячиё были счастливы, проводя время с Н.-К., и однажды предложили ему искупаться с ними. Молодой человек поспешил домой, и его воспитательница запретила ученицам приглашать к себе её приемного сына.
Тем не менее, Н.-К. очень подружился с одной из учениц, своей однолеткой. Это была Оцута — дочь богатого купца, черноглазая красавица, тихая, молчаливая, вдумчивая и верная девушка. Она чудесно танцевала и пользовалась огромным успехом. Н.-К. и Оцута обычно были партнёрами. Они любили друг друга, сначала как дети, а когда в 15 лет Оцута узнала тайну друга, она полюбила его как маленькая женщина. Однако Оцута всегда понимала глубину пропасти, разделявшую её с возлюбленным: он был потомком самураев, она — только дочерью купца. Вот почему любовь молодых была тайной, нежной и тревожной...
Осенью 1836 г. окрестности столицы были поражены эпидемией тифа, которая унесла и Ячиё и Сыуна. Н.-К. остался одиноким — второй раз осиротел. Умирая, его воспитатели заклинали своего приёмного сына выполнить волю отца и восстановить величие своего имени верной службой делу микадо.
Нетрудно представить себе состояние Н.-К., когда юноша остался один. Он опять мучительно переживал внутреннюю раздвоенность: с одной стороны — требование души — неотразимое тяготение к искусству, с другой — требование долга — необходимость готовить себя к государственной, военной и политической деятельности.
И как быть с любовью к Оцуте? А ко дню своего совершеннолетия — к 16 годам — он должен все решить.
После похорон приёмных родителей Н.-К. отправился к подруге Ячиё, владетельнице театра Коуме, с которой хотел посоветоваться о дальнейшей своей судьбе. Эта пожилая, опытная женщина, отлично ведшая своё сложное дело, могла дать серьёзный совет.
Инстинктивно чувствуя непрочность существующего порядка, Коуме рекомендовала Н.-К. не считаться с сословными предрассудками, с быстроменяющимися взглядами и советовала прежде всего слушаться голоса собственного таланта. Она убеждала его создать себе положение собственным трудом, пренебрегая устаревшими представлениями о традиционной карьере. Она предостерегала Н.-К. от увлечения женщинами, во всяком случае, советовала не терять от них головы, а скорее заставлять их терять головы. Для развития своего искусства Н.-К., по её мнению, должен был приготовиться к тому, чтобы пожертвовать счастьем тысячи женщин. Но ни в коем случае — это он должен запомнить — ему нельзя отдать свою душу женщине.
Эти взгляды произвели на Н.-К. большое впечатление, и он всегда высоко ценил совет Коуме.
Сейчас он решил побеседовать ещё со старым учёным монахом буддистом Какуненом, жившим в храме Тенрю-Дзи. В первую же встречу старец предложил Н.-К. сложный и важный вопрос, который должен был помочь молодому человеку найти собственный путь: «Что значит по-твоему — и в огне сердце остается твёрдым, как камень?»
Три недели провёл здесь Н.-К., подвергнув себя чрезвычайно суровому режиму, и вот что ответил в результате глубокого размышления: «Нельзя в условиях вечно меняющейся жизни пленить себя одним чувством, одним делом, одною мыслью. Плен одного стремления — источник страданий. Вот почему, чтобы двигаться дальше, надо уметь сбрасывать с себя бремя старых забот и возвращаться к освобождающей личность пустоте. Естественный инстинкт вернее всего укажет правильный путь. Если меня манит дорога искусства, я пойду вперёд с надеждой приблизиться к цели. Если меня призовёт дело укрепления императорской власти, я посвящу ему свои силы. Если инстинкт призывает меня любить женщину, я отдамся ей. Чтобы вернуться к освобождающей пустоте, надо опуститься на самое дно жизни, а затем возродиться на этой новой почве, чтобы, познакомившись с общественным злом, его победить».
Таким образом, Н.-К. уяснил себе дальнейшую дорогу.
Он бросил школу, друзей и, даже не простившись с Оцутой, пропал для мира. Только с Коуме он побеседовал на прощанье и взял от неё несколько рекомендательных писем.
Прошло два года. О судьбе Н.-К. ничего не было известно...
Несмотря на неурядицы в государстве, радостно выглядел богатый торговый город Осака весною 1838 г. Здесь, в театре Кадодза, при большом стечении народа, открылся сезон знаменитой труппы Кабуки, во главе с известнейшим актёром Накамура Цурузо. Главная драма называлась: «О 24 сыновьях, почитавших своих родителей». Афиши объявляли о новом актёре, имени которого никто до сих пор не слышал, Сегава Какуноске, игравшем роль княжны Яэгаки. Пьеса шла 45 дней подряд с огромным успехом, чему в немалой мере способствовал новый ояма — Сегава Какуноске.
Согласно традиционным представлениям театра Кабуки, исполнение роли женщины мужчиной даёт более полное впечатление, чем обычный приём, когда женщина играет самоё себя. Сегава Какуноске, казалось, перевоплощался в трогательную и мужественную девушку, которая с опасностью для жизни спасает жениха, переправляясь по тонкому льду озера, поддерживаемая чудодейственной силой волшебного шлема. Сегава превосходно передал аристократизм Яэгаки, её благородную красоту, грацию и невинное кокетство. Такого исполнителя осакская публика ещё не видывала.
Надо ли пояснять, что под именем Сегава Какуноске выступал Нисики-Коодзи Кикумаро?
(Его изображение в этой роли приложено к настоящей биографии.)
Действительно, весь облик Н.-К. отвечал требованиям театра Кабуки. Его ожидала блестящая карьера.
К этому времени труппа Кабуки насчитывала около 330 лет своего существования и именно сейчас она переживала период исканий новых путей. Можно сказать, что теперь театр Кабуки и гейши получили особую популярность, стали главными источниками художественных наслаждений для всех слоёв народа.
Однако профессия актёра ещё считалась ниже большинства профессий, и носители её оставались неполноценными гражданами страны. Таким образом, Н.-К. мог думать, что он дошёл, так сказать, до доступного ему «дна» общественной жизни, так как вором, разбойником или нищим врождённая порядочность никогда не позволила бы ему стать.
О благородном происхождении Н.-К. знал только первый актёр театра Накамуро Цурузо, человек великодушный, твёрдый и справедливый, пользовавшийся уважением всего театрального мира и всегда старавшийся возвысить положение актёров. Он был также настоящим реформатором сцены и создателем нового стиля игры. Его высокие требования к искусству заставили Н.-К много и усердно работать, прежде чем ему был предоставлен дебют. В течение целого года Н.-К. должен был ограничиваться наблюдением за поведением женщин в жизни и подражанием мельчайшим их движениям. Чтобы добиться эффекта женской походки, например, он зажимал между колен бумажку и ходил так, чтобы она не выскользнула. За год бумажка упала на землю лишь один раз.
В течение многих недель Н.-К. с большим трудом вынужден был отклонять назойливое ухаживание одного молодого человека, который согласился отложить свои притязания, только услышав выдуманную историю, будто эта прелестная девушка связана клятвой мести за смерть отца, мешающей ей сейчас выйти замуж. Поклонник мечтал помочь возлюбленной в её мести и, лишь побывав в театре и ознакомившись с афишею, понял, что в этом случае его желание не увенчается наградой.
После дебюта Н.-К. играл много ролей — крестьянок, чувствительных горожанок, изящных замужних дам — и всегда имел успех. Вот почему, несмотря на свою молодость, он стал главным оямой труппы Кабуки.
Любопытно упомянуть ещё об одном случае, доказывающем, как глубоко проник Н.-К. в психологию и характер женщины. Однажды, будучи в мужской одежде, он был задержан на заставе Хаконе по подозрению в том, что является переодетой женщиной. Женщинам же выход из района Едо (здесь и была расположена застава) запрещался. («Нельзя выходить женщинам из Едо и нельзя вносить в город огнестрельное оружие», — гласило соответствующее распоряжение сеогуна.) Только строгий обыск освободил Н.-К. от подозрений.
Став главным оямой, Н.-К. занял свои досуги изучением живописи. Он подружился с художником из школы Тоса, по имени Тоса Мицунобу, который познакомил его с новыми принципами японского искусства. Через знакомого купца из Нагасаки Н.-К. получил ящик с масляными красками, привезённый из Голландии. Н.-К. занялся станковой масляной живописью, старался овладеть секретом изготовления масляных красок.
Н.-К. пользовался расположением ряда знаменитых мастеров японской гравюры Хокусаи, Хоккей и Куниёси и мастера живописи школы Кано, по имени Кано Мотоёси. В собственном творчестве Н.-К. старался объединить достоинства этих школ, найти новые формы. Достигнув известности художника, Н.-К. стал подписывать картины именем и фамилией Омуро Риун.
В театральном же искусстве Н.-К. создал новый стиль игры, сохранившийся до наших дней.
Уже в одной из первых своих ролей — девушки Осити в пьесе «Яоя Осити» Н.-К., вразрез с обычной трактовкой, создал сложный психологический портрет молодой женщины, незаслуженно падающей жертвой трагической судьбы. В пьесе «Осака Нацнедзин» Н.-К. дал эпический образ японской женщины в роли Каэде, жены полководца Кимура Сигенари; чувствуя, что муж не вернётся с поля битвы, Каэде положила благовония в его шлем, чтобы, в случае его гибели в бою, его отрубленная голова, поднесённая главнокомандующему вражескими войсками, продолжала благоухать. Узнав о смерти мужа, Каэде закалывает себя кинжалом.
Каждое выступление Н.-К. в роли Каэде зрители награждали слезами и аплодисментами.
Проникновенно исполнял Н.-К. прославленную им роль ойран (куртизанки) Такао. Эта необыкновенно привлекательная, изящная и умная женщина оставила свою артистическую, но утомительную профессию, отвергла домогательства богачей и аристократов и вышла замуж за простого добродушного ремесленника — художника по разрисовке тканей: ведь последний работал денно и нощно в продолжение двух лет, лишь бы заработать столько, чтобы хватило денег на счастье провести с ойран Такао хоть одну ночь.
О тщательности подготовки Н.-К. ролей говорит следующий случай. Разучивая роль Онатсу в пьесе «Онатсу Кёран» (Безумие Онатсы), Н.-К. принял к себе в дом одну настоящую сумасшедшую девочку. Ухаживая за несчастным подростком, артист превосходно усвоил все повадки безумной.
Углублённой актёрской работы потребовала от Н.-К. роль Окину в пьесе «Товада Синдзю» (Трагедия озера Товада). Сюжетом пьесы послужило реальное происшествие — самоубийство молодого монаха вместе с любимой им и влюблённой в него замужней женщиной. Этой пьесой театр Кабуки намеревался утвердить свою славу в столице сеогуна Едо. Переезд туда труппы был намечен на весну 1850 г. Последние репетиции шли успешно, но Н.-К. был далеко не удовлетворён своей игрой: он чувствовал, что ему недостает понимания переживаний женщины, поглощённой преступной любовью. Н.-К. сидел задумавшись в пустой комнате ресторана, где только что поужинала вся труппа. Здесь его заметила хозяйка этого заведения — гордая, молодая, замужняя женщина. Н.-К. решил провести над нею жестокий опыт: он признался ей в будто бы давно испытываемой страсти. Очевидно, великий артист сумел передать переживания необычайной силы и заразил ими бедняжку: она поникла, у неё перехватило голос; она простирала руки к молодому человеку... Н.-К. встал и вышел: он понял, чего ему недоставало; он теперь знал, как выглядит женщина, пронзённая непреоборимой любовью. «Я готов играть», — сказал он Накамуре Цурузо в этот вечер.
Утром в пустом зале театра был найден труп хозяйки ресторана, накануне вечером поверившей артисту...
В роли Окину Н.-К. имел в Едо беспримерный успех. Показателем этого триумфа могли служить многочисленные самоубийства на любовной почве, сделавшиеся прямо-таки модными в самых разнообразных слоях столицы.
До какой степени Н,.-К. привык к постоянной игре в женщину, доказывает наслаждение, с которым он однажды распахнул на груди платье, как это прилично только мужчинам, упиваясь прохладным ветерком, и сказал: «Правду говорит пословица: летним вечером, под свежим ветерком — чувствуешь счастье быть мужчиной!»
Следует заметить, что с тридцатилетнего возраста Н.-К. стал носить в частной жизни исключительно мужское платье и только на сцене становился обворожительной женщиной.
В 1851 г. произошло восстание против сеогуна, организованное приверженцами Нисики-Коодзи Такамаро, которое было разгромлено из-за отсутствия связи с единомышленниками и недостатка средств. Н.-К. был очень удручён этим событием. Он временами горько упрекал себя, что слишком увлекся искусством, что пренебрегал друзьями в столице, что давно не видел даже Тасуке, его жену и дочь, не знал, как живет Оцута, хотя и слышал, что она осталась девушкой. Но вот к Н.-К. пришли жена Тасуке с дочерью Омацу и рассказали о доблестной гибели старого слуги на поле сражения. Потом Н.-К. посетил его учитель и врач Огата Таихаку, который подробно описал ход восстания и просил артиста принять участие в движении за освобождение страны. Н.-К. много думал, как ему жить дальше и, верный инстинкту, решил принять это предложение. Но он сам выбрал для себя путь: он сохранил профессию актёра, а делу восстания помогал тайно, собирая средства и расширяя и упрочивая знакомства, благодаря которым он мог быть в курсе правительственных мер. Его ближайшим помощником стала Омацу — служанка и друг.
Каким же образом Н.-К. мог доставить заговорщикам средства? Он знал, что его, как великого актёра, обожает множество богатых и знатных женщин. Он шёл навстречу их желаниям, а они жертвовали огромные суммы на дело микадо, хотя сами думали, что этим лишь слабо благодарят своего любовника. Эти многочисленные интимные связи позволяли Н.-К. быть отлично ориентированным в намерениях высших сановников и даже самого сеогуна. Говорят, что статистика этого своеобразного (воспользуемся снова европейским термином) «идейного дон-жуанства» Н.-К. исчисляет его победы цифрой, близкой к тому итогу, который сообщает в своей знаменитой арии Лепорелло, — около тысячи женщин.
Гастроли театра теперь совершались по плану Н.-К., и таким образом сеть его информации росла очень быстро. Он продолжал также писать картины, которые продавались по большим ценам.
Во время пребывания театра в Едо Н.-К. несколько раз проникал в гарем сеогуна благодаря роману с главной надзирательницей за женами повелителя. Великому артисту удалось добиться успеха даже у новой любовницы сеогуна — Омасы. Через неё Н.-К. мог не только узнавать планы сеогуна, но и влиять на его распоряжения. Так, например, он сумел добиться освобождения арестованных заговорщиков-монархистов.
Н.-К. старался подчинить репертуар театра целям монархической пропаганды: был поставлен ряд пьес, прямо или косвенно обличавших порядки сеогуната. Драматургу труппы Кабуки пришлось за это отсидеть в кандалах под домашним арестом три недели; главный актёр Накамуро Цурузо поплатился месяцем ареста и запрещением в течение полугодия выступать перед публикой. Наконец и самому Н.-К. запретили играть на такой же срок. Это не помешало смелому артисту всячески помогать заговору: его квартира при театре служила приютом преследуемым заговорщикам; в числе их были заслуженный генерал Саидзо Тадимори, будущий министр финансов маркиз Ита Масару и многие другие.
Все сведения и средства Н.-К. передавал через врача Огату главному деятелю реформаторского движения дворцовому сановнику Ивамира Ацуми. Эти усилия Н.-К. были вскоре полностью оценены новым правительством.
А тем временем Н.-К. продолжал играть, создавая разнообразные роли. Он ввёл в употребление театральные декорации, в том числе живописный задник. Театральные костюмы Н.-К. содействовали появлению новых мод, по-японски изящных и по-европейски удобных. Некоторые фасоны женских платьев до сих пор носят его сценическое имя.
Как выше говорилось, Н.-К. всё с большим мастерством писал картины. Между прочим, в его живописи мы часто встречаем одну, на первый взгляд несколько странную, тему — многочисленные изображения привидений, ещё одно доказательство сложной натуры артиста. По мнению Н.-К., подлинный последовательный реализм и заключается в том, чтобы суметь сообщить любому, даже столь невещественному и таинственному явлению, как привидение, вполне конкретный и ясный характер. Поэтому образы привидений занимают столь заметное место в творчестве Н.-К. и на сцене, где он с наслаждением играл соответствующие роли, и в его картинах.
Однажды Н.-К. великолепно сыграл роль бедной девушки, погибшей без вины и обрёченной после своей смерти являться в мир в виде призрака. Он написал свой автопортрет в этой роли и пожертвовал его в храм, около которого, по преданию, была могила несчастной девушки. Но молящиеся были так напуганы этим призраком, казалось, готовым каждую минуту выйти из рамы, что картину пришлось поставить в глубине храма, где никто не мог бы её заметить.
Между тем надвигались события, открывшие новую эру в истории Японии, положившие конец господству сеогунов. В стране возникали бунты, росло недовольство, множились заговоры. Отряды войск восставших князей, поддерживаемые народом, двигались к столице. XV сеогун решил подавить сопротивление вооружённой силой.
В 1868 г. ранней весной под городом Киото произошло первое столкновение, замечательное тем, что здесь над войсками восставших, в первый раз в японской истории, взвилось императорское знамя, сразу в глазах народа освятившее дело восстания и превратившее войска сеогуна в банду противозаконных разбойников. Силы сеогуна были разбиты и обратились в бегство. Императорская армия по трём дорогам направилась к столице сеогуна — к Едо.
В эти дни всеобщее восхищение вызвал «Японский марш», который исполнялся оркестром мальчиков. Этот марш сочинил Н.-К., и он же создал оркестр.
Как известно, город Едо долго не сдавался императорским войскам, хотя сам сеогун покорился микадо. Чтобы избежать кровопролития, начались переговоры с осаждёнными. Н.-К. был привлечён к переговорам: его знали все — и сторонники микадо, и приверженцы сеогуна; ведь у него в театре в своё время скрывался от преследования генерал Синдзё, ныне начальник штаба императорской армии.
Переговоры привели к капитуляции Едо и тем самым к окончательной бескровной победе. Национальная революция завершилась. Образовалось императорское правительство. Н.-К. был предложен пост правительственного советника. Однако артист отклонил это предложение: он не искал славы и власти. Он продолжал играть в театре и писать картины, будучи фактически, независимо от назначений, одним из влиятельнейших деятелей культуры новой Японии.
Заметим, между прочим, что около этого времени Н.-К. начал страдать болезнью глаз.
Недомогание не помешало Н.-К. принять важное поручение правительства: в связи с перенесением столицы в Токио (в бывшую резиденцию сеогуна Едо) ему поручалось перестроить и украсить императорский дворец.
Этому делу Н.-К. посвятил целый год и создал сооружение, поражающее всех, кто его видел. Стены большого зала были украшены картинами японских и европейских мастеров, одна из которых — «Урашима» — легенда о бедном рыбаке, попавшем во дворец морского царя, — принадлежала кисти Н.-К.
Стремясь ускорить развитие японской культуры, Н.-К. организовал «Японское культурное общество»; он создал государственный музей драгоценностей и искусств, основал художественную школу, и благодаря его стараниям была открыта выставочная галерея. Им был организован союз мастеров искусств. В Токио им был построен новый театр Кабуки («Кабуки-Дза»). Н.-К. возобновил и реформировал кукольный театр, построил императорский театр в Токио, а при нём создал школу для молодых актрис. Но самое замечательное из всего сделанного им — это возвышение актёра, завершившееся превращением актёра из отщепенца в полноправного верноподданного.
В 1874 г. в Токио была открыта международная выставка — доказательство усилий правительства покончить с замкнутостью Японии. Здесь Н.-К. организовал панораму «кукол-хризантем». Это была своеобразная композиция из плоских фигур; в каркасы фигур вставлялось бесчисленное множество хризантем; цветы своими яркими и нежными красками, так сказать, раскрашивали всю композицию. Когда выставку посетил микадо со всей семьей, им впервые показали спектакль труппы Кабуки — пьесу «Кан-Дзи-Чо» (Книга пожертвований), чуть ли не первую из 18 знаменитых пьес репертуара этого театра, главные роли в которой играли Н.-К. и Цурузо. Все актёры получили высочайшую благодарность, что, конечно, очень высоко подняло положение актёра в глазах всего общества.
Н.-К. в Токио жил в скромной квартире с верной служанкой Омацу. Он одним из первых отказался от прежней прически «мачé», характерной тем, что передняя часть головы выбривалась, а остальные волосы связывались на макушке, образуя род косички, торчавшей кверху, и заменил её европейской прической. Но Н.-К. сохранил склонность к ношению национальной одежды из материй красивых глубоких тонов. Европейский костюм он надевал редко, хотя выглядел в нём так, что возбуждал зависть всех модников. Впрочем, как мы уже не раз говорили, он был лишён обычного честолюбия и тщеславия, и скромность его поведения удивляла многих.
В 1884 г. Н.-К. ослеп. Все усилия врачей оказались бесплодными. Но и в этом страшном несчастье артист оставался спокойным и всегда доброжелательным.
В 1885 г. была создана новая аристократия: деятели монархического движения получили титулы. Н.-К. было предложено графство, от которого он почтительно отказался.
После этого Н.-К. в продолжение десяти дней в Токио давал прощальные спектакли, несмотря на опасения друзей и поклонников, боявшихся за больного слепого артиста. На сцене блистала прежней красотою и умом ойран Такао и танцевала грациозная Омацу...
Простившись со сценой, Н.-К. переехал на место своего рождения в деревню Яасе под городом Киото. Там он жил уединённо в маленьком крестьянском доме, верный Омацу, слушал шум сосен, попивал чай и играл на самисене.
Скоро в дом переехала красивая старушка — подруга детства Н.-К. — Оцута. Судьба увенчала их старость нежной дружбой, как бы соединяя начало и конец их жизней.
В 1890 г. была обнародована японская конституция, завершившая создание новой государственности, а в 1891 г. в марте Н.-К. умер на руках Оцуты и Омацу, осыпаемый лепестками цветов вишни.
Память о великом артисте живёт в народе.
Помимо всем известных его заслуг Н.-К. приписывается множество приключений, выдумок, чудачеств, благодеяний, шуток.
Вот некоторые из них.
Однажды один из друзей Н.-К. жаловался ему на бедность и задавленность долгами: дело дошло до того, что ему теперь приходится думать, не продать ли дочь! Н.-К. взял простой стаканчик и бамбуковую ложечку. Он упаковал их в красивый ящик и с вежливым письмом отослал к известному богачу. В письме содержалась просьба выдать подателю ящика деньги взамен редкостных вещей, посылаемых адресату. Богач, гордый письмом Н.-К. и «редкостностью» предметов, хранящихся в ящике, выдал значительную сумму бедному другу артиста.
Один из новоиспечённых богачей города Осака умолял Н.-К. написать для него картину. Это был невежественный человек, один из тех, кто боится даже произнесения неприятных слов и, охотно говоря о прибыли, остерегается упомянуть слово «убыток».
Н.-К. изобразил на картине дом богача, склад с товарами и перед домом — семь богов благополучия.
Богач в восторге любовался картиной. Вдруг он заметил, что из окна его дома выглядывает какой-то старичок. «Кто это? Кого вы нарисовали?» — спросил он Н.-К. «Это бог нищеты. Он не может выйти из вашего дома, так как боги благополучия окружили его со всех сторон», — ответил художник.
В 1881 г. в день нового года у одного из министров был бал-маскарад, куда обещал прибыть и Н.-К. И вдруг среди блестящего общества в роскошных маскарадных костюмах появилась сидящая в тележке старая больная нищенка в жалких отрепьях в сопровождении двух грязных оборванцев. В руке у неё была маленькая бамбуковая палочка, на которой болтался человеческий череп. Все общество застыло в недоумённом молчании. А старушка пропела известные стихи:
| Новогодняя ёлка — веха на дороге к смерти! Ты одновременно и достойна и недостойна радости и поздравлений! |
Оборванцы протащили тележку вокруг зала и внезапно исчезли вместе со старушкой — Н.-К.
Умиря, Н.-К. по обычаю написал танка:
| В театре Ада На сцене из иголок Буду я играть. У судьи — Иэмма слёзы Извольте-ка исторгнуть! |
(*) Ояма — актёр, играющий женские роли. (*) Точно говоря, следовало бы сказать — «новогодняя сосна», играющая в Японии роль нашей рождественской ёлки.
(*) Иэмма (Эмма) — верховный судья загробного мира.

На долю писателей и поэтов, носителей художественной гениальности, редко выпадают судьбы столь безбурные и вместе с тем ознаменованные столь неизменным успехом, как судьба Доувеса ван Ноордена.
Этот выдающийся мастер слова принадлежал к тому роду творцов, событиями жизни которых являются, по выражению Г. Флобера, лишь их собственные произведения.
По окончании Лейденского университета в. Н. принимается за свой первый роман «Розы юнгфру Дончен». Материальный достаток (в. Н. принадлежал к состоятельной семье, возглавлявшей известную фирму «Корица ван Ноорден и Куттен») и спокойный уравновешенный характер обеспечивали писателю возможность неторопливой, методической работы.
Первый роман, с точки зрения современной критики не представляющий особого интереса, был, однако, тепло встречен читающей публикой. Понравилось сочетание тенденций гуманистического реализма со свойственным только в. Н. подходом к людям и к явлениям жизни: подходом неистощимо добродушного, всем сочувствующего, в меру весёлого наблюдателя, любящего больше всего домашний уют, безобидную шутку, уравновешенных жизнерадостных людей, занятых то легким, приятным трудом, то безвредными развлечениями, и мягкость нидерландской природы с её притушёнными красками, неторопливой зыбью каналов и медлительным движением судов по бесчисленным водным артериям.
Этот характер экспозиции жизненного материала, искрящийся порою блёстками юмора и оттеняемый брошенными мимоходом мазками, живописующими минуты более напряжённых переживаний действующих лиц, определил собою творческую манеру Н. почти на всю его долгую литературную жизнь.
Жизнь эта протекала гладко, тихо и ровно, как бы подражая неспешному движению вод в равнинных реках его родины. Каждые пять лет, с поражающей нас аккуратностью, в. Н. дарил публику новым романом или сборником новелл. С годами его мастерство крепло, расширялся круг тем, но мироотношение писателя оставалось прежним, в равной степени чуждаясь как индивидуалистических крайностей эстетического и философского декаданса, так и разработки больших социальных проблем. Единственным произведением, в котором в. Н. попытался коснуться темы войны и вопроса о путях социального совершенствования, мы можем считать роман «Не плачьте, вдовы», вышедший в 1920 г. Шедеврами в. Н. считаются, по справедливости, произведения совсем иного рода: книга рассказов «Веселые крокетисты» и семейные романы-идиллии «Дом архивариуса ван Флит» и «Кузина Гретель». Здоровый оптимизм, крепкая, спокойная любовь к жизни, чисто голландский юмор, вызывающий в памяти полотна ван Остаде, сделали эти прелестные поэмы в прозе украшением библиотеки почти в любом голландском доме.
Столь же гармонично сложилась и личная жизнь в. Н. Женившись 28 лет на дочери богатого негоцианта Екатерине ван Линден, писатель с годами стал настоящим Pater Familias, в 60-летнем возрасте это был отец девятерых детей и дедушка 22 внуков, преуспевающий глава торговой фирмы, всеми уважаемый депутат Нижней Палаты, член нескольких академий, собственник очаровательного маленького дворца в Амстердаме и виллы на морском берегу.
В возрасте 75 лет в. Н. испытал небольшое кровоизлияние в мозг, лишившее его способности действовать правой ногой и приковавшее его на остаток дней к креслу на колесах. К. счастью, удар не отразился ни на умственных способностях, ни на даре речи, ни на художественном даровании. Казалось даже, что почтенный старец, восседающий в своей колясочке, странным образом обрёл в обрушившемся на него испытании новый запас духовных сил: больше, чем когда-нибудь, его речь блистала остроумием, рассказы о прошлом очаровывали слушателей свежестью красок и живостью картин, а роман «Любитель шуток», который он понемногу, день за днём, диктовал своей любимой внучке Бэт, обещал вплести в его венок новые лавры. Казалось, всё предвещало заслуженному писателю мирную, ничем не омрачённую старость. Однако безжалостный рок судил иное. Он подготавливал цепь столь неожиданных, даже, можно сказать, ошеломляющих событий, что биографу до сих пор трудно увязать их с общеизвестным спокойствием и прославленной невозмутимостью характера маститого нидерландского писателя. В числе близких подруг юнгфру Бэт, запросто посещавших дом в. Н., находилась двадцатилетняя Долорес Сандрильонес, дочь богатого испанского коммерсанта, торговые интересы которого, тесно связанные с нидерландскими деловыми кругами, заставили его обосноваться в Голландии. Последние годы детства и юности Долорес протекали в Амстердаме, но влияние голландского уклада жизни и национальной психологии этой страны не смогли серьезно изменить порывистой и страстной природы уроженки Андалузии. Однако её эксцентрические выходки пока ещё не переступали границ допустимого и воспринимались её голландскими друзьями как оригинальная дань её романскому происхождению.
Толчком к несчастью, разразившемуся над домом ван Ноорденов, послужило безобидное, казалось бы, желание Долорес принять участие в работе своей подруги Бэт, стенографировавшей роман «Любитель шуток» под диктовку своего дедушки. Возраст и состояние здоровья в. Н. представлялись надежной гарантией против каких бы то ни было романтических увлечений, которые могли бы зародиться в сердце его юной почитательницы. Но не следует забывать, сколько блеска и игры мысли, какая живость ума и чувства проявлялись в каждом высказывании жизнерадостного старца, в каждом его рассказе. Уже давно очарованная этими увлекательными беседами, Долорес оставалась теперь целыми часами наедине с писателем, делаясь свидетельницей и едва ли не участницей волнующих таинственных перипетий творческого процесса. Более странным нам кажется другое: то, что самого в. Н. вплоть до роковой минуты так и не посетило ни разу подозрение об истинном характере привязанности к нему подруги его внучки. Неожиданное, как снег среди жаркого лета, объяснение, облечённое к тому же в форму бурных, абсурдных, ни с чем не сообразных требований, показалось в. Н. столь чудовищным, прямо-таки невозможным, что минутами он серьезно сомневался в реальности происходившего. Действительно, трудно было поверить, что человеку его лет, разбитому параличом, предлагают немедленно бросить жену, детей и внуков и, прибегнув к помощи обмана, исчезнуть с молодой поклонницей для того, чтобы вкусить с нею всю полноту счастья в африканских колониях Испании.
Потрясение писателя было так велико, а содержание объяснения казалось столь неправдоподобным, что невольный виновник бурной привязанности даже не решился поведать о происшедшем госпоже ван Ноорден или кому-либо из других членов семьи. Он только сумел прервать, под предлогом нездоровья, диктовку злополучного романа «Любитель шуток», тем самым лишив свою поклонницу возможности встреч и поэтому, как ему казалось, предотвратив дальнейшее развитие её страсти.
Катастрофа разразилась в мае 1935 г., в первые же дни после переезда писателя на его виллу. Вилла находилась на берегу Зюдер-зее в местечке Флаккдам; одной стороной домовладение выходило на побережье, а другой — на прелестную тихую улицу, окружённую садами, в глубине которых прятались другие виллы и несколько более скромных домиков, типа коттеджей. Улица упиралась в небольшую площадь Флаккдама с его общественными зданиями и несколькими магазинами; другим же концом она терялась в поле, превращённом в плантацию тюльпанов.
18 мая писатель, чувствовавший себя действительно не вполне здоровым, но не желавший упускать превосходного солнечного дня, был вывезен в сад. С моря дул ветерок, и поэтому г-жа ван Ноорден распорядилась водворить своего супруга на уютной лужайке в той части сада, которая была расположена между улицей и домом и защищена этим последним от свежего дыхания морской стихии. Не расположенный в этот день к работе, в. Н. был оставлен, по его собственной просьбе, в коляске с несколькими книгами и пачкой газет.
Мягкое весеннее солнышко так нежно ласкало лицо и руки, а отзвуки прибоя доносились с такою усыпительной монотонностью, что писатель сам не заметил, как приятная дремота смежила его веки. Проснулся он от резкого толчка и в первую секунду мог только понять, что его коляска, кем-то толкаемая сзади, с необычной быстротой катится к калитке на улицу. Слабо вскрикнув, несчастный попытался повернуться в своем экипаже, чтобы выяснить личность виновника столь стремительного бега; но раньше, чем ему удалось это совершить, коляска очутилась уже по ту сторону калитки и понеслась вдоль садовых оград по направлению к тюльпановой плантации. Каково же было потрясение чувств писателя, когда, сумев, наконец, оглянуться, он увидел в полуметре от своего лица сверкающие глаза и разгорячённые щеки своей поклонницы!..
Со свойственной всем выдающимся умам быстротой ориентировки писатель сообразил, что сколь это ни дико, но он становится жертвой похищения. Пучина неизведанных бедствий явилась в тот же миг его очам, побуждая его к отчаянным мерам самозащиты. Улица, как нарочно, была совершенно безлюдна: ни полисмена, ни единого прохожего. Только в одном из цветников, мимо которых мчалась кресло-коляска, группа молодежи играла в крокет. В. Н. успел крикнуть и несколько раз взмахнуть рукой, однако играющие, чрезмерно увлечённые своей партией, не обратили внимания на эти мольбы о помощи: очевидно, они находились весьма далеко от мысли, что от их поведения в эту минуту зависит судьба одного из лучших умов их родины. Видя безрезультатность зовов на помощь, несчастный попытался, рискуя жизнью, выпрыгнуть из коляски, но непослушная правая нога помешала этой попытке. Да и было уже поздно: на краю плантации зловеще чернел на фоне розовых и алых тюльпанов закрытый «кадиллак». Уже плохо сознавая происходящее, писатель почувствовал, как чьи-то руки отрывают его от кресла и вбрасывают внутрь машины, похитительница садится за руль, включает [?], и вот уже за стёклами начинают мелькать, уносясь, быть может, навсегда, окрестности милого Флаккдама.
Размеры биографии не позволяют нам останавливаться подробно на дальнейших перипетиях этих трагических дней, равно как и на смятении, вызванном исчезновением писателя, сперва на вилле ван Ноорденов, а потом и во всем голландском обществе. Похищение было совершено с такой смелостью, а стечение обстоятельств так благоприятствовало похитительнице, что никакие новые факты, даже обнаружение на краю плантации опрокинутой коляски, не могли пособить делу. И семья пропавшего, и полиция, и общественность были к тому же введены в заблуждение политической обстановкой тех дней; общий голос настойчиво обвинял в гнусном преступлении немецких национал-социалистов, давно уже проявлявших слишком повышенный интерес к передовым деятелям сопредельных Германии стран и не гнушавшихся никакими средствами для их устранения.
Но через четверо суток семья писателя получила телеграмму: «Торопитесь приехать отель Беренгария Лейден спешите Ноорден».
Надо ли говорить, с какой быстротой члены семейства откликнулись на этот отчаянный призыв. Впрочем, газеты опередили родственников и напечатали интервью своих корреспондентов с в. Н. под сенсационными заголовками: «Я протестую против слабости отечественных законов, неспособных оградить покой личности!», «Ван Ноорден просит Голландию защитить его жизнь!», «Спасения и охраны просит у своей страны её любимый писатель!»
Взорам прибывших в Лейден родных предстало прискорбное зрелище: седины, ещё недавно обрамлявшие высокое чело писателя, сильно поредели, печать истощения лежала на его лице; мы уже не говорим о состоянии его гардероба...
Почтенное семейство должно было пережить дополнительные огорчения, когда были получены парижские и в особенности американские газеты, пестревшие крикливыми заголовками вроде следующих: «Новый Лот! Пленник собственной внучки!», «Любовь торжествует над старостью! Похищение голландского писателя красавицей испанкой!», «Шалости престарелого купидона на Зюдер-зее».
На эстрадах Нью-Йорка и Чикаго имел скандальный успех отвратительный скетч «Дон-Жуан на колесах», где высмеивался скромный экипаж писателя, использованный его похитительницей в качестве транспортного средства. Но всех превзошёл эмигрантский листок «Хоругвь», поместивший фельетон под более чем неуместным заглавием: «Любовь зла — полюбишь и козла!»
Следует ли говорить, что объяснения, данные в. Н. представителям прессы, не содержали ничего, что оправдывало бы эти дерзкие инсинуации.
Писатель выразился резко, но с той сдержанностью, которая имела характер рыцарской заботы о репутации девушки, столь неосторожно ввергнувшей и его и свою честь в пучину этих экстравагантных приключений.
«Я протестую, — сказал он, — против такого устройства человеческого общества, в котором престарелому писателю грозит похищение. Я протестую против такого общественного уклада, при котором тщетно взывать о помощи! Я протестую против общественного порядка, при котором молодые люди насильственно пытаются удовлетворить свои желания!.. Я негодую на тот нравственный абсентеизм, который ведёт к тому, что партия крокета оказывается предпочтительнее дела спасения ближнего! Я взываю к здоровым элементам нашего общества: опомнитесь! Образумьтесь!!!»
Сообщить о подробностях своего невольного вояжа, о приюте, где он пробыл эти дни, о нравственных и физических потрясениях, которые ему пришлось испытать, в. Н. отказался. Не менее решительно отказался он и от судебного преследования своей похитительницы. Но негодование, переполнявшее его, нашло энергичное выражение в новом романе «Так жить нельзя!».
 |
Исполненное негодующего пафоса, это пламенное воззвание 76-летнего старца, до тех пор известного умеренностью своих убеждений, произвело в Голландии впечатление, если позволительно так выразиться, разрыва бомбы замедленного действия. Переведённый почти на все литературные языки роман «Так жить нельзя!» получил всеобщее признание и вошёл в золотой фонд литературы, ставящей своей целью существенно повлиять на моральное переустройство мира. К сожалению, писателю не суждено было стать свидетелем победоносного шествия своего величайшего творения по странам Европы, Азии и Америки.
Потрясения, обрушившиеся на его организм, оказались слишком велики.
Впервые после благоразумно-длительного перерыва вывезенный на своей видавшей виды коляске солнечным апрельским утром на ту самую лужайку сада, откуда он был похищен год назад, писатель почувствовал чрезвычайное волнение. Натиск жгучих воспоминаний был так силён, что сердце его не выдержало. Корифея голландской литературы не стало...
(*) Pater Familias — отец семейства, глава рода (лат.) — Ред.
  |