
 |
Не становятся ли в этом свете понятны его слова:
Не этот ли неугасимый инстинкт воина, живший в Пушкине, заставил его сказать:
И разве лишь простой случайностью объясняется тот факт, что из военной среды вышли писатели Болотов, Карамзин, Бестужев-Марлинский, Чаадаев, Дружинин. Толстой, Достоевский, Гаршин, Крестовский, Станюкович? Нет, это закономерно, так же, как закономерно и то, что офицерами были композиторы Львов, Алябьев, Виельгорский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи...» Нам не кажутся убедительными эти примеры, где по формальному признаку службы в армии соединены имена людей, подчас являвшихся профессионалами военными, подобно Д. Давыдову, подчас бывшими глубоко штатскими людьми, лишь считавшими своим долгом разделить жребий народа, как Гаршин, а иногда и тяготившимися строевой службой, как Надсон. И неужели можно серьёзно говорить о влиянии военной службы на творчество Фета? Разве не является нелепостью размышление П.-П. об органической связи с армией творчества Ф. М. Достоевского лишь на том основании, что последний окончил Военно-инженерное училище и в «Дневнике писателя», говоря о ходе военных действий и их перспективах, упоминает о том, что в своё время учил по тактике? Неужели для понимания музыки Мусоргского действительно полезно знать о его службе в Преображенском полку? Здесь, несомненно, страстная, но несколько слепая любовь автора к выбранному им делу и какой-то своеобразный милитарный идеализм заставляют П.-П. изменять здравому смыслу. К разряду курьёзов относится и раздел книги, посвящённый разбору промахов, сделанных писателями в произведениях на военные темы. Приведем для примера хотя бы следующие замечания к «Войне и миру». «В главе XXV, т. I, ч. I мы читаем: "Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведённых ему покоях укладывался со своим камердинером". Гениальный писатель, очевидно, забыл, что эполеты были введены в русской армии после Тильзита. Записки Д. Давыдова свидетельствуют о неудовольствии офицеров, что мы заимствовали эти украшения у французов. Между тем князь Андрей Болконский отправляется в армию в 1805 г. Следовательно, у него не было и не могло быть сюртука с эполетами. В главе VIII, ч. III сказано: "Красивый молодой император Александр в конногвардейском мундире, в «треугольной шляпе, надетой с поля", и т. д. Судя по тому, что на государе была надета шляпа, а не каска, — следует полагать, что он был не в конногвардейском мундире, а в вицмундире того же полка». И подобные замечания занимают 112 страниц. Тем не менее эта трогательная черта П.-П. — любовь к родной литературе — не осталась без положительного влияния на воспитанников Киевского корпуса, многие из которых действительно отличились успехами в изучении русской словесности. Некоторые из них впоследствии с тёплым чувством вспоминали своего начальника. Так, П. В. Кузьмин-Короваев писал в «Историческом вестнике», в статье «Из воспоминаний молодости»: «Кто из нас забудет неуклюжую массивную фигуру директора, медленно движущегося вдоль фронта по актовому залу, или с трудом вползающего в дверь класса для присутствия на уроке, или, наконец, косолапо пробирающегося на носках при ночном обходе дортуаров. Суровый с виду, П.-П. был тем не менее заботливым воспитателем, умевшим с каким-то особым, грубоватым по форме, но нежным, тёплым чувством говорить с детьми и юношами. «Ты что однокашника обижаешь? — обращается директор к забияке-первоклашке. — Ты меня вот попробуй тронь! Скажи-ка мне лучше «Бородино». Шалун, запрокинув голову, вытягиваясь в струнку, смотрит на «бегемота», который возвышается над ним, напоминая глыбу или какого-то мамонта, и начинает пищать: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» Воспитанников старших классов покойный генерал любил «гонять по литературе», задавая свои любимые вопросы: «А ну, скажи мне, в каких полках служил Лермонтов? » «В лейб-гвардии гусарском, Нижегородском драгунском, в лейб-гвардии Гродненском гусарском и в Тенгинском пехотном». «А с каким полком ушёл на войну писатель Гаршин?» «Со 138-м Волховским пехотным полком!» «А в каком полку служил поэт Надсон?» «В 148-м Каспийском пехотном полку!» «А где служил Фет?» «В Орденском кирасирском и л.-гв. Уланском!» Зная вкусы директора, почти все готовы были в любой момент дать нужный ответ. Сложнее было выучить, где (в каком полку) служили герои литературных произведений: Николай Ростов был павлоградским гусаром, Анатоль Курагин — конногвардейцем, Долохов — семёновцем, Вронский — конногвардейцем, Герман — военным инженером и т. д. Помню, мой одноклассник, впоследствии известный физиолог, В. В. Отпарин составил специальный биографический словарь, который мы все и выучивали наизусть; там были упомянуты все военные — персонажи основных произведений, указано место их службы». В 1896 г. П.-П. опубликовал книгу «Традиции военно-учебного заведения, части, рода оружия, армии как необходимая мифология военного дела», переведённую на ряд иностранных языков. В 1898 г. под псевдонимом Тушин П.-П. выступил как романист, напечатав большой роман из офицерской жизни под названием «Без страха и упрёка». Однако именно эта широкая известность и представлялась тогдашним руководителям военного ведомства ненужной и даже вредной для воспитателя военной молодёжи. В «Русском инвалиде», «Разведчике», даже «Новом Времени» появлялись статьи под характерными подписями, вроде: «Старый солдат», «Бывалый солдат», «Служба» и т. п., авторы которых, ссылаясь на авторитет крупнейшего теоретика и практика военного воспитания М. И. Драгомирова, утверждали, что «военное дело больше волевое, чем умовое»; поэтому, мол, «следует внимательно присмотреться к странным педагогическим опытам Киевского корпуса, где под видом военного воспитания засоряют головы юношей всевозможными дряблыми и неопределенными гуманистическими идеями». В 1901 г. П.-П. был вынужден подать в отставку. Пытаясь казаться бодрым, скрывая тяжёлый недуг (водянку), он говорил своим друзьям: «Простим министру! Его высокопревосходительство, по слову Евангелия, «не ведает, что творит!..» Последние годы П.-П. провел на покое, продолжая, однако, работать над книгами и статьями. Из них необходимо назвать интересное исследование, обобщающее огромный практический опыт автора, «О гармоничном воспитании военного юношества» и содержательный исторический опыт «Традиция и самодеятельность. К вопросу о месте и значении частной инициативы на военной службе». Талантливость П.-П. нашла своё выражение в посмертно изданной книге, где собраны были его поэтические произведения, которым он, оказывается, отдавал досуги с юных лет; это книга стихов с характерным названием «Лагерь — город полотняный». Упомянем ещё о даре популяризатора, свойственном П.-П. Им были написаны многочисленные брошюры для солдат и унтер-офицеров, например: «Телом бодр, духом чист!», «Православный воин — Богом храним!», «На войне и смерть красна». Наконец, незаурядная одарённость покойного генерала доказывается увлекательностью созданных им пьес-водевилей для солдатских спектаклей, прочно вошедших в военный быт. «Дело мастера боится», или «Наши жены — ружья заряжены», «Маленький удаленький всё поле обскакал», или «Вперёд коли, назад прикладом бей!». П.-П. является также автором весёлой и доступной музыки к этим водевилям.  ПШЕДОМБСКИЙ
1885 — 1938 |
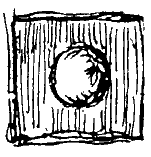 Шар |
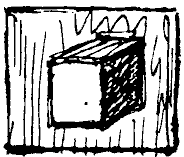 Куб |
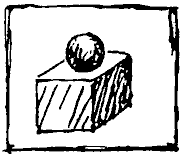 Шар и куб |
Однако внутренняя логика вела неутомимого мастера всё дальше.
«Я окончательно убедился, — читаем мы в одном из последних писем П., — что и шар и куб являются, по существу, лишь кажущимися первичными формами. На самом деле их не существует...»
Последние полтора десятка лет жизни П. провёл в новых исканиях. Его картины заключительного периода характеризуются отказом от передачи объёма. Всё внимание сосредотачивается на попытке выразить мировосприятие через цвет. Дело осложнялось тем, что П. добивался выявления цвета без участия света и тени. Мы не помещаем в приложении репродукций картин этого периода: никакое воспроизведение не в силах передать всю прелесть живописной игры этих неповторимых полотен.
В увлекательных поисках трудноуловимого «простейшего цвета» и застала П. смерть. Подобно воину, сражавшемуся до конца, П. уснул навсегда с кистью в руке.
Его творчество можно сравнить с постоянным восхождением к новым вершинам, а вся жизнь является подлинным примером преданности искусству.
(*) Morituri te salutant — «Идущие на смерть приветствуют тебя» (лат.).
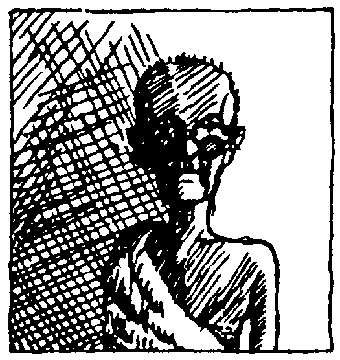
Рамадас Авалокитешвара-Чхандогия родился в поместье Балярампур на берегу р. Ганга, вблизи города Бенареса. Обстановка старинной браминской семьи, проникнутая философскими интересами и преданиями индуизма и в то же время не чуждая некоторым формам умственной европеизации, определила в значительной степени те элементы, из которых сложилось миросозерцание Р. Отец его, поэт Ауробиндо Рамадас, пользовался в своё время широкой известностью благодаря своим переводам на бенгальский язык лучших образцов английской и французской поэзии, а также благодаря собственному сборнику лирики «Гирлянда Ханумана».
Сыну он дал превосходное домашнее образование, несколько односторонне, впрочем, воздействовавшее на впечатлительного мальчика своей религиозно-нравственной и содержательно-эстетической стороной. Позднее Р. совершил четыре путешествия в Европу, где установил дружественные связи с рядом выдающихся деятелей, боровшихся за культурное сближение Востока и Запада, в частности с Роменом Ролланом. Известно также, что умственная жизнь молодого Р. была осложнена длительными увлечениями естественными науками, в особенности зоологией, которую он изучал в продолжение трёх семестров на естественном факультете в Кембридже.
В 1891 г. Р. выступил перед индусской общественностью с капитальным религиозно-философским трудом «Покровительство животным как основа общечеловеческого единения». В последующие годы, обосновавшись в Калькутте, Р. сближается с обществом «Брахма самадж» и религиозно-философским обществом «Ramakrischna mission», на посту председателя которого он пребывает, с небольшими перерывами, от 1901 до 1912 г. В эти же годы возникает его дружба с великим Р. Тагором. Известно, что Тагор чрезвычайно высоко ценил нравственный облик Р., называл своего друга «великим молитвенником за всех бессловесных». В этот период Р. опубликованы два основных исследования. Если одно из них — «Животная символика в новейших течениях индуизма» — доказывает, как глубоко и всесторонне овладел автор исследовательским методом сравнительной религиологии, то второй из этих трудов, всецело относящийся к образцам нравственно-философских сочинений, свидетельствует с не меньшей выразительностью об оригинальном направлении, в котором работала настойчивая мысль нашего писателя. Уже заглавие этого труда говорит само за себя: «Идея сострадания к паразитам как веление человеческой дхармы, согласно учению Могавиры».
Повышенный интерес к подобным вопросам приводит Р. к признанию недостаточности тех мероприятий, которые проводились в указанном направлении существовавшими доселе организациями, и следующий период деятельности Р. ознаменовывается горячим и неустанным участием его в деле устройства госпиталей и богаделен для животных. В особенности широкой, можно даже сказать, всемирной известностью пользуется учреждённый им в городе Нагпуре санаторий для кобр.
Новейшие достижения европейской науки в области консервирования крови открывают перед неутомимым апостолом любви к животным новые горизонты; в 1931 г. им организуются добровольный «Всеиндийский союз доноров-паразитофилов» и «Ассоциация общественной помощи насекомым», ставящая своей задачей создание и поддержку особых приютов для престарелых блох и клопов.
Этот период оказывается для Р. весьма плодотворным также и в литературном отношении: с 1912 по 1932 г. им опубликовано свыше 120 брошюр и статей, об общем характере которых может дать представление заглавие одной из них: «Молитва и её значение для преодоления трудностей в деле зубоврачебной помощи крокодилам». Однако тип позвоночных меньше интересует Р., — быть может, вследствие того, что облегчением участи этих животных всё-таки занимаются уже многие учреждения. Больше всего привлекает его этическая проблема взаимоотношений между человеком и паразитами, этими, как он выражается, «обречёнными и всеми гонимыми существами, ниоткуда не получающими помощи и гибнущими без ропота и жалоб в неравной борьбе».
Даже описанных выше, несколько чрезмерных с нашей точки зрения усилий оказывается недостаточно для строго-последовательного мыслителя. В 1935 г. Р. выступает перед экзальтированной аудиторией своих адептов с несколько странною лекцией на тему о том, что человечество, испокон веков истребляющее паразитов триллионами, может искупить своё злодеяние, только принеся себя в добровольную жертву потомкам собственных жертв. Полемизируя с Ганди, он утверждает, что практическое осуществление этой истины является миссией Индии и указывает на то, что психологический склад и религиозно-нравственный уровень индийского народа позволяют уже в наше время превратить в реальность эту «высочайшую мечту».
Столь экстравагантный, мы бы даже сказали, болезненный уклон мысли оказался для престарелого философа роковым: в 1938 г. в Нагпуре, при обширном стечении публики, Р. дал себя заживо съесть потомкам тех, кого бесчеловечно уничтожали его предки.
(*) Хануман — божественный вождь обезьян, один из популярнейших образов индуистского пантеона.
(*) Могавира (Махавира)— основатель секты джайнизма (IV в. до н.э.).
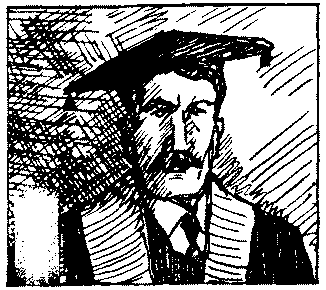
Детство и молодость Роберта Росса прошли без каких-либо ярких событий. Он родился в семье пользовавшегося заслуженною известностью адвоката и получил прекрасное среднее образование, после чего поступил на медицинский факультет Кембриджского университета. Здесь Р. отдал традиционную дань спортивным увлечениям английского студенчества, выдвинувшись на знаменитых академических гребных гонках Кембридж — Оксфорд. В 1922 г. Р. окончил университет. К этому времени увлечения бурной молодости уже потеряли для него своё очарование, уступив место более высоким интересам.
Время окончания Р. университета совпало с полосою значительного оживления интересов научных кругов к железам внутренней секреции. Многие из читателей этих строк живо вспомнят тот шум, который вызвали в это время сенсационные сообщения Штейнаха и Воронова об омоложении. В те же годы был получен синтетическим путем тироксин — гормон щитовидной железы (Кендалль-1919); было показано его мощное и разностороннее влияние на организм. Тогда же появились первые сообщения Бантинга и Веста об инсулине, Эванса об изумительных результатах опытов с гормоном роста и о целом ряде других не менее важных открытий.
Более чем естественно, что под влиянием этих достижений науки, открывавших широкие возможности активного вмешательства в функции живого организма, Р. глубоко заинтересовался эндокринологией и с тем же темпераментом, который отличал его, как спортсмена, отдался исследовательской деятельности в этой молодой отрасли науки.
Получив в 1923 г. небольшое наследство, Р. до 1930 г. работает в лабораториях выдающихся специалистов по внутренней секреции в Германии, Голландии, Соединенных Штатах. Он блестяще усваивает сложнейшие экспериментальные методы, выполняет ряд серьёзных исследований и становится признанным знатоком в избранной им сфере научной деятельности.
Мы убеждены, что, продолжая свой путь в этом направлении, Р., несомненно, стал бы не только primus inter pares в кругу выдающихся биологов нашего века, но достиг бы и того положения, которое позволило бы, перефразируя слова Эдинбургского физиолога Барджера о Павлове, назвать его «Princeps endocrinologorum mundi».
Однако судьба Р. сложилась совершенно неожиданно. Вернувшись в 1930 г. в Англию, он поселился в Лондоне и получил разрешение дирекции Лондонского зоопарка организовать небольшую личную лабораторию при этом учреждении. Дело в том, что у Р. в результате работ по изучению механизма оплодотворения, а также в итоге детальных исследований полового цикла ряда животных и его гормональной регуляции сложилось убеждение в возможности значительного расширения межвидовой гибридизации. Р. применил в этих целях новую, разработанную им методику искусственного оплодотворения. Он точно учитывал при этом фазы полового цикла подопытных самок, широко проводил предварительную подготовку животных выделенными им гормонами и вообще проявил необыкновенную изобретательность в сочетании с глубочайшим пониманием всех интимнейших деталей процесса.
Опыты действительно показали плодотворность идей
Р.: ему удалось получить гибриды морской свинки и кролика, кошки и хорька, лисицы и динго и некоторые другие. Эксперименты Р., высоко оценённые специалистами-биологами, не привлекали, однако, особенного внимания широкой публики до тех пор, пока он ограничивался такими объектами.
Отдельные карикатуры в «Punch», где Р. изображён плывущим в море верхом на морже-жирафе или бойко скачущим на верблюде-кенгуру, да несколько строк в воскресных фельетонах крупных газет, в развязной форме дававших читателям «пощупать пульс науки наших дней», — вот единственное проявление общественного интереса к работам Р. Да Р. отнюдь и не стремился к дешёвой популярности. Он всегда подчёркивал, что его работы имеют чисто теоретический интерес, и упорно отказывался давать какие-либо интервью назойливым журналистам. «Поторопитесь лучше писать «о голупугаях», — говорил он репортерам, — пока они не научились ещё сами пользоваться вечным пером и пишущей машинкой! Публике это куда интересней, чем мои опыты».
Однако скоро Р. превратился в главное действующее или, вернее сказать, в главное страдающее лицо грандиозного скандала. Начало этому взрыву негодования положило лаконичное сообщение в «Proceedings of the Biological Society» о заседании этого общества от 24. III. 1932 г.
Десять строк под § 3 сообщали о том, что член об-ва доктор Р. демонстрировал препараты четырёх трёхмесячных эмбрионов — результат искусственного оплодотворения самок шимпанзе мужскими половыми клетками человека. Во всех четырёх опытах беременность закончилась самопроизвольным выкидышем. Параллельно демонстрируемые препараты обычных зародышей шимпанзе этого же возраста показали ряд действительно поразительных отличий.
Абсолютная неожиданность сообщения (доклад был заявлен Р. под скромным заглавием: «К проблеме межвидовой гибридизации. Сообщение XVIII — демонстрация некоторых новых препаратов») вызвала растерянность почтенной аудитории и полное отсутствие прений. Зато через день после выхода в свет упомянутого выпуска «Proceedings...» газеты самых разнообразных направлений оказались единодушными в резчайших нападках на Р.
Так, даже либеральная «Daily Paper» негодовала: «Мы всегда были за самую широкую свободу научного исследования, но, по нашему искреннейшему убеждению, такие опыты, какими занимается д-р Р., не имеют никакого отношения к науке. Это или легкомысленная профанация могущества знания, по меньшей мере, странная для взрослого культурного человека, или неслыханное доселе злоупотребление теми возможностями, которые цивилизованное общество обеспечивает учёным, и — да простят нам читатели резкое слово — проституирование самой идеи научного эксперимента...»
Не менее резко писал орган епископальной церкви «Christian People»: «Мы никогда не считали, что христианская церковь должна ставить своё veto на какие-либо направления современной науки. Наоборот, мы полагали и полагаем, что всякое подлинно научное открытие, независимо от воли его автора, только расширяет и углубляет для всех истинно мыслящих людей представление о величии и неисповедимой мудрости творца всего сущего, только приближает нас к познанию божественного промысла. И если сейчас мы подымаем свой голос негодования, то именно потому, что мы исключительно высоко ценим науку, считая её одним из данных нам всевышним путей к Его познанию. Кощунственная идея — сочетать в противоестественном слиянии человека — образ и подобие Божие, обладателя бессмертной души, с существом, олицетворяющим лишь одно животное, скотское начало жизни, — не может не вызвать законного отвращения и святого негодования в каждом нормальном человеке. В самом исходе этого святотатственного эксперимента мы видим благое вмешательство Того, без чьей воли ни один волос не падает с головы человека: ни один из плодов этого, противного законам естества и морали чудовищного амфимиксиса, к счастью, не дожил даже до половины своего утробного существования...»
С других позиций обрушивался на Р. левый орган «The Workers Voice». Вот несколько строк из помещённой в нём статьи «Разоблачим до конца козни буржуазной лженауки!»: «Товарищи рабочие! Под видом исследований, имеющих лишь сугубо научный, чисто теоретический интерес, жрецы буржуазной науки, стремясь сохранить строй, обеспечивающий им тёплое место под своим крылышком, открыли замаскированный крестовый поход против рабочего класса.
Сегодня это неудачные результаты опытов д-ра Р., но кто поручится, что завтра это не станет тысячами, десятками, сотнями тысяч верных рабов буржуазии, способных овладеть техническими навыками для работы на фабриках, но лишённых человеческих потребностей, классовой сознательности и социальных устремлений? Долой изуверскую лженауку! Все на демонстрацию протеста! Требуйте немедленного прекращения опытов лжеучёного Росса!..»
В общем хоре возмущения достаточно громко раздавались и голоса антививисекционистов. Так, один из них в письме за подписью «Зоофил» в редакцию консервативного «The Union Jack» негодовал: «Только совершенно противоестественная жестокость под маской научного интереса могла заставить вооружённую холодным и жестоким шприцем руку д-ра Р. лишить несчастных животных одной из естественных и законных радостей их омрачённого неволей существования. Бессмысленный риск безвозвратного нарушения здоровья этих ни в чем не повинных созданий и даже риск смерти их из-за преждевременных родов ещё больше отягощают деяния д-ра Р. и взывают к совести всех честных людей, считающих, что наука, добывающая свои сомнительные «достижения» ценою гор жертв и океана страданий беззащитных животных существ, не нужна человечеству...»
Не считая возможным перегружать наше повествование дальнейшими цитатами из прессы этих бурных дней, мы ограничимся краткой выдержкою, характеризующей степень накала, до которой дошли некоторые органы печати. Бульварного типа листок «All about Everything» действительно побил все рекорды в нижеследующих строках: «Постоянное назойливое повторение Россом в его докладе термина «искусственное оплодотворение» позволяет думать, не есть ли это самое слово «искусственное» только искусный камуфляж, скрывающий истинное положение дела? Не обнаруживает ли жонглирование этим словом, вполне естественное для человека, обладающего вкусами и склонностями так называемого «доктора» Росса, стремление не обнаружить публично недостаточное уважение к совершенно определённым статьям Британского уголовного кодекса?»
Мы должны с истинным прискорбием отметить, что после трёх дней такой бури, бушевавшей на страницах всех лондонских газет, дикие звери Лондонского зоопарка стали изумлёнными свидетелями того, как цивилизованные англичане начала второй четверти XX столетия буквально разнесли в щепки скромный павильон, в котором находилась лаборатория злополучного Р. Сам Р. не сделался жертвою этого взрыва общественных страстей только потому, что один из его друзей почти насильно увёз его за день до этого печального события в своё имение в Южном Уэльсе.
Как обычно бывает, после описанного эксцесса страсти довольно быстро улеглись и общественный интерес естественно переключился на новые очередные сенсации, причудливо сменяющие одна другую в жизни современного человечества.
Р. после этих дней исчез с горизонта, и даже его друг ничего не мог сообщить о местопребывании учёного ни журналистам, ни Скотланд-Ярду. Прошло несколько месяцев, и Р. был почти совершенно забыт. Только банки с препаратами, оставшиеся после доклада в скромном музее общества, свидетельствовали о реальности его существования в столь недавнем прошлом. Бурные политические события 30-х гг., вторая мировая война и послевоенные годы, насыщенные предчувствием новых катаклизмов, помогли сгладить память о Р. даже в кругах его коллег. Поэтому, когда летом 1949 г. новый председатель Биологического об-ва получил странную телеграмму, подписанную этим именем, он долго не мог сообразить, кто такой, собственно, этот Росс. Телеграмма была отправлена с одной из маленьких факторий, затерявшихся в верхнем течении реки Замбези, и гласила: «Интересах науки прошу срочном приезде компетентных биологов, антропологов тчк дело моей жизни завершено успешно тчк вынужден просить поторопиться приездом не уверен сколько времени меня хватит тчк прибытии факторию N обратитесь телеграфисту Дженкинсу тчк гарантирую безусловную значительность моих результатов убедительно прошу избежать преждевременного интереса прессы Росс».
Созванное председателем об-ва конфиденциальное совещание решило без особого шума, но срочно направить в N любезно согласившихся на это профессоров Брикса и Этвуда с двумя их ассистентами. Через два дня эта четверка вылетела на самолете линии Лондон-Кэптаун и, пользуясь благодеяниями современной транспортной техники, в несколько дней проделала весь путь до фактории N, на которой во время Ливингстона понадобилось бы много месяцев.
Дальнейшая часть нашей статьи основана на личных воспоминаниях проф. Брикса, любезно предоставленных нам автором в рукописи.
Телеграфист Дженкинс принял прибывших с заметной сдержанностью и только убедившись в том, что гости действительно представители науки и к тому же двое из них в прошлом университетские товарищи и личные друзья Р., выразил готовность доставить всех к последнему.
День пути на лодках вверх по одному из порожистых притоков Замбези и несколько часов ходьбы по еле заметной тропе в дебрях девственного леса привели наших путешественников к уединённой долине, служившей, как оказалось, убежищем Р. ещё с осени памятного для него 1932 г.
Избранное Р. место действительно было необыкновенно удобным для него. Долина начиналась сужением между двумя рядами холмов и вскоре же расширялась до 300—500 ярдов (270—450 м). Вытянутая средняя её часть, покрытая, как и вся окружающая местность, девственным лесом, возвышалась над краями. Вдоль одного из краёв протекал довольно полноводный ручей; У подножья противоположных холмов глубокой длинной рытвиной проходило старое русло того же ручья. Короткая, но высокая плотина, насыпанная туземцами под руководством Дженкинса в суженной части долины, превратила, благодаря описанному строению местности, этот участок в настоящий остров около двух миль (более 3 км) длиною. Плотина дала вместе с тем возможность использовать напор воды для приведения в действие небольшой гидроэлектростанции. Ток от неё обеспечивал, помимо бытовых и лабораторных надобностей Р., и высокое напряжение, постоянно включённое в проволочную сеть, замыкавшую подход к плотине со стороны острова. Небольшое бунгало, стоявшее в тени деревьев у плотины, служило одновременно и жильём Р. и его лабораторией.
Когда полные впечатлений от дороги среди чудес тропического леса и взволнованные предстоящей встречей учёные подошли к плотине, они увидели на веранде бунгало длинную худую фигуру, бессильно растянувшуюся в легком плетеном кресле. Оклик Дженкинса: «Хэлло, Док! Принимайте гостей!» — заставил фигуру вздрогнуть, вскочить и торопливыми, но неуверенными шагами направиться по дорожке навстречу пришельцам. На ходу худоба этого человека стала ещё более заметной. Легкая полузастёгнутая куртка, висевшая мешком на костлявых плечах, открывала глубокие впадины над ключицами и резко проступающие ребра. Брюки казались надетыми на две лыжные палки, а высохшие кисти рук и длинные тонкие пальцы невольно заставляли вспомнить о мумиях. Опущенные седые усы, землистый цвет хорошо выбритого лица, лихорадочно блестевшие глаза, казавшиеся огромными благодаря ввалившимся щекам и запавшим орбитам, пересеченный глубокой вертикальной морщиной лоб придавали всему его облику какую-то особенную, почти трагическую значительность.
— Боже правый, — первым не выдержал Этвуд, — Росс! Старина!.. Да неужели это вы? Что с вами стряслось? Клянусь адом, я никогда не узнал бы вас!
Общие дружеские восклицания, крепкие рукопожатия и похлопывания по плечу, несколько принуждённые шутки и смех продолжались и после того, как вся компания вошла в просторную комнату. Приятный ветерок от вращающегося на потолке электрического вентилятора, запотевшие бутылки виски и содовой воды, немедленно извлечённые Р. из холодильника, декоративный камин с рдеющими в нём в груде больших кусков тёмного стекла красными электрическими лампами, большая книжная полка, на которой рядом с научными руководствами и журналами видны были тиснёные корешки переплетов Диккенса, Сервантеса, Гофмана, Э. По, Достоевского, Голсуорси и Шоу, чистая скатерть на столе — всё это казалось совершенно неожиданным в этом глухом углу тропического леса.
Р., торопясь и явно волнуясь, но оставаясь кратким и деловитым, рассказал о своем бегстве из Англии, прибытии в N, неоценимой помощи Дженкинса в выборе места, постройке плотины и дома и о продолжении здесь, без всяких помех, опытов, явившихся причиной его изгнания из цивилизованного мира.
— А теперь, друзья, немедленно за дело! Для учёных одни только слова не имеют большой ценности. Позвольте предъявить вам мои фактические живые аргументы — моих антропопитеков, как я их назвал.
Все вышли на веранду. Р. несколько раз ударил в гонг, и на площадку перед домом из густых зарослей начали один за другим торопливо появляться странные созданья. Они были ростом с бушменов, но гораздо более тяжелы и широкоплечи. Длинные руки почти доходили до угловатых колен. Худые, почти равномерной на всем протяжении толщины икры переходили в уплощенные жилистые стопы с непомерно длинными пальцами. Бочкообразная грудь несла короткую толстую шею, увенчанную массивной тяжёлой головой. Покатый низкий лоб, резко выступающие надбровные дуги и скулы, мясистый сплюснутый нос, монументальная нижняя челюсть, большие и толстые губы, выпяченные вперёд крепкими, выступающими под тупым углом зубами, маленькие бегающие глаза, горевшие из-под кустистых, похожих на усы бровей, — всё это врезалось в память с первого же взгляда. Все тело этих существ было покрыто редкими рыжевато-коричневыми волосами. На всех были крохотные набедренные повязки.
Всех их собралось шестнадцать.
— Ну, вот и моя семейка, — дрогнувшим голосом, но всё же стараясь сохранить шутливый тон, сказал Р. — Посмотрите, что это за милая публика. Кстати, вы убедитесь сейчас, что, что бы ни говорили о нашем добром английском языке, но он действительно замечателен, годясь и для завораживающих стихов, и для того, чтобы учить говорить существа, только что переходящие из животных в человека. Смотрите и слушайте! Начался необыкновенный разговор:
— Hullo, boys, how are you? (Алло, ребята, как поживаете?)
— We are fine, doc! (Великолепно, доктор!) — проскрипели нестройным хором собравшиеся полукругом питомцы Р. Тяжёлые головы, несмотря на явные усилия этих уродливых созданий держаться прямо, пригибали их туловища к земле, и длинные руки болтались перед их бедрами. Хриплые низкие голоса, явно сдерживаемые, казалось, больше подходили для издавания рёва, чем для членораздельной человеческой речи. Напряжённое внимание, с которым все они уставились на подошедшего к ним Р., было одновременно и забавно и немного жутко.
— Who are you? (Кто вы?)
— We are doc Ross's sons. (Мы сыновья доктора P.) — раздался ответ.
— Are you beasts? (Вы — животные?) — продолжал P.
— We are not beasts. (Мы — не животные).
— Then what you can do? (Тогда что же вы можете делать?)
— We can speak. (Мы можем говорить).
— What more? (Что ещё?)
— We can sing. (Мы можем петь).
— Sing, boys! (Спойте, ребята!)
Лес огласился наиболее странными звуками, какие когда-либо достигали человеческих ушей. Незамысловатая мелодия известной детской песенки — «У Мэри был ягнёночек» — прозвучала, вероятно, в первый раз за многие годы своего существования, как дикий гротеск, как невероятная пародия на вокальный джаз.
— Stop singing! (Перестаньте петь!) — сказал Р., заметив невольное выражение неловкости на лицах своих гостей.
Дальнейшая программа состояла из короткого танца, выявившего совершенно своеобразную неуклюжую грацию и несомненное наличие определённого чувства ритма у антропопитеков. За танцем последовала «работа» — пять человекообезьян проворно вырыли лопатами небольшую канаву в несколько ярдов длиной; остальные показали своё искусство в пользовании пилой, молотком и гвоздями, тележкой, вёдрами и бочкой. Игра в мяч завершила демонстрацию.
Похлопав своих питомцев по спине и наделив каждого большим куском сладкого изюмного кекса, Р. крикнул: Good bye, boys!
С ответным хоровым воплем: Good bye, doc! — антропопитеки исчезли в чаще так же быстро, как и появились.
Воцарилось молчание, которое никто из смущённых гостей не решался прервать. Казалось, что все только что проснулись после фантастического спутанного сновидения и не могут ещё установить, где кончился сон и где снова началась реальная жизнь.
Если бы не непрерывная съёмка всей сцены ручным киноаппаратом, которую с момента появления антропопитеков и до их исчезновения вёл один из ассистентов, то, может быть, и в дальнейшем это странное чувство неуверенности в реальности виденного никогда не оставило бы свидетелей описанной картины.
За столом в бунгало разговор возобновился; вернее, говорил Р., а остальные слушали, лишь иногда прерывая его короткими репликами.
— Итак, как видите, антропопитеки — реальность, — начал Р., — но если бы вы только знали, скольких трудов всё это стоило!
К счастью, климат существенно помог делу, но и то — сколько всяких мер пришлось перепробовать, чтобы добиться благополучного завершения беременности. Да, между прочим, заметили ли вы, что в моей семейке только мужские отпрыски? Видимо, женский пол гибрида связан с летальной комбинацией генов, так что эти эмбрионы погибают в первые же дни и рассасываются. Кстати, эти опыты вообще чертовски трудны. Вы себе представить не можете, сколько попыток искусственного оплодотворения пришлось сделать на каждой обезьяне, прежде чем получилась удача. А сколько их, кроме того, вообще ни разу не дали желаемых результатов, несмотря на многие десятки впрыскиваний, и даром скачут по деревьям, аккуратно являясь, впрочем, за всякими лакомыми подачками. А тут ещё и чертова лихорадка, от которой удаётся избавиться только на короткое время, а затем она снова хватает тебя...
От моих гибридов в этом отношении никакого толку: бедняги совершенно неплодовиты...
Я очень рад, что вы застали меня ещё в живых. Мне кажется, я никогда не чувствовал себя так плохо, как в последние дни...
Р. с помощью Дженкинса накрыл на стол. Появился ужин, бутылки. Постепенно все оживились — присущая учёным любознательность взяла верх над возникшим после демонстрации антропопитеков чувством неловкости, посыпались вопросы. Р. был в приподнятом настроении, с разгоревшимся лицом и блестящими глазами он отвечал, показывая различные препараты, фотографии, читал выдержки из протоколов опытов.
Незаметно подошла ночь. Все с большим или меньшим комфортом расположились на ночлег. Р. ушёл в свою спальню.
Утомлённые дорогой и столь необычными впечатлениями, гости проснулись, когда солнце было уже довольно высоко и лес был весь полон звуками, красноречиво говорившими о бьющей в нём ключом пестрой, бодрой, насыщенной своими заботами и радостями жизни. Все побрились, умылись и вполголоса обменивались мнениями по поводу событий вчерашнего вечера, боясь потревожить сон хозяина. Однако скоро Дженкинс первым поднял тревогу: «Док никогда не спит так долго». Осторожный стук в спальню остался без ответа. Тихо приоткрыв дверь, Дженкинс вошёл к доктору.
Через полминуты он поспешил вернуться к остальным.
— Джентльмены, доктор Росс никогда больше не встанет в этой жизни! Боже, благослови его душу! — произнес он сдавленным голосом.
Мы не будем описывать горе друзей и отдание ими последнего долга усопшему. В найденном завещании Р., между прочим, писал: «Моих питомцев прошу оставить на месте. Они достаточно приспособлены к жизни в условиях тропического леса и смогут постоять за себя, пока длятся их дни. В любой другой обстановке без моего внимания и ухода они будут только несчастны. Пусть мой опыт кончится с моей и с их жизнью — потомства они не оставят».
Нужно ли говорить, что воля покойного была во всём с точностью выполнена.
(*) Primus inter pares — первый среди равных (лат.). — Примеч. ред. (*) «Princeps endocrinologorum mundi» — «Князь эндокринологов мира» (лат.). — Примеч. ред. (*) «Punch» — «Панч», английский сатирический журнал. — Примеч. ред. (*) «Proceedings of the Biological Society» — «Труды Биологического общества» (англ.). — Примеч. ред. (*) «Daily Paper» — «Ежедневная газета» (англ.). — Примеч. ред. (*) «Christian People» — «Христиане» (англ.) — Примеч. ред. (*) «The Workers Voice» — «Голос рабочего» (англ.). — Примеч. ред. (*) «The Union Jack» — «Союзный Джек »(англ,). — Примеч. ред.
(*) «All about Everything» — «Всё обо всём» (англ.). — Примеч. ред.
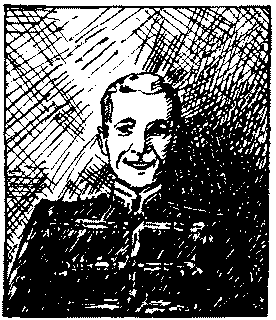
Знаменитый дрессировщик и цирковой артист Ричард Смит родился в Сан-Франциско в семье служащего портовой таможни. С раннего детства С. проявлял необычайный интерес к животным, их жизни и нравам и пользовался странным влиянием на них. Собаки, кошки беспрекословно слушались мальчика, подчинялись всем его желаниям. Молодой С. дрессировал мышей, крыс, домашних птиц, постоянно добиваясь выдающихся результатов.
По окончании колледжа С. поступил на естественный факультет Калифорнийского университета, уже пользуясь известностью как дрессировщик. Но молодой человек хотел овладеть современными новейшими знаниями животного мира прежде, чем начать в больших масштабах самостоятельную работу. Кончив университет в 1927 г., С. обзаводится собственной опытной станцией, где ведет дрессировку самых разнообразных зверей.
Блестящие результаты деятельности С., естественно, привели к тому, что ему были сделаны многочисленные предложения демонстрировать своих питомцев публично. Так началась его цирковая карьера.
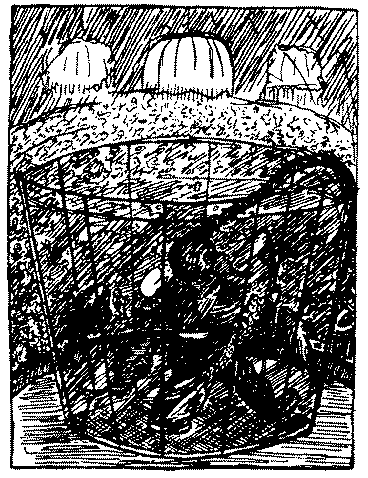
Превосходный спортсмен, С. быстро овладел сложными аттракционами. Не ограничиваясь обучением обычных зверей-хищников, домашних животных, змей, С. чрезвычайно удачно разрабатывал новые виды дрессировки, включив в число учеников представителей морской фауны. Так, например, «Танец на дне моря», исполняемый С. в аквариуме с целой группой морских рыб (во главе с акулой Клеопатрой), произвёл настоящий фурор. Отважные, полные юмора, сработанные с подлинным артистическим изяществом, выступления С. — Риччи Рэя — пользовались сногсшибательным успехом среди самой разнообразной аудитории, старой и молодой. Дети обожали Риччи. |
С другой стороны — ряд аттракционов С. заставлял публику буквально умирать от страха, например, выступление с боа-констриктором Дези, который на глазах у публики проглатывал укротителя. Щекотанием желудка змеи С. добивался эффектного возвращения на арену, когда значительная часть зрителей лежала в обмороке.
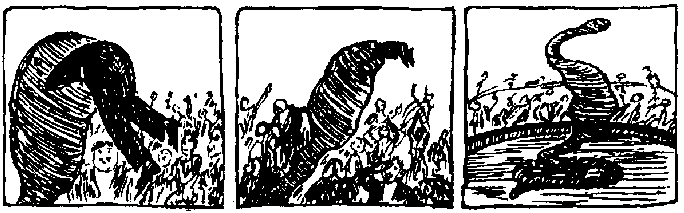
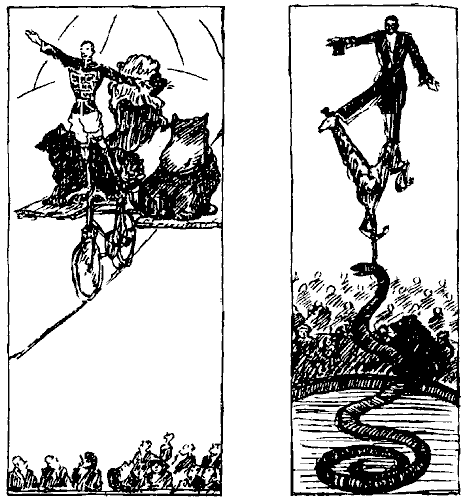
«Полёт под куполом на велосипеде» представлял собой также чудо балансирования, сопровождавшееся захватывающими переживаниями даже для привыкшей к сильным ощущениям американской публики.
Работа С. всегда проходила под наблюдением научных обществ, рассматривавших молодого дрессировщика как выдающегося практика в области познания животной психики.
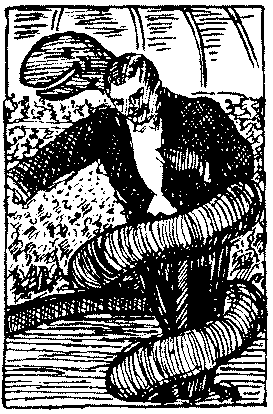
С другой стороны — ряд аттракционов С. заставлял публику буквально
В противоположность обычной судьбе укротителей, столь часто становящихся жертвой неукрощенных, по сути дела, инстинктов хищников, С. погиб в результате вспышки разбуженных им в своих питомцах чувств высшего духовного порядка: он был убит из ревности пантерой Пегги, которой казалось, будто её обожаемый учитель выказывает явное предпочтение другим воспитанницам, в особенности грациозной жирафе Молли.

Хитроумный и дальновидный, ловкий и великодушный Тачибана Иосихидэ чертами лица и миниатюрной фигурой напоминал обезьяну. Ласковое прозвище Обезьянка закрепилось за ним с детских лет, и под этим именем он жив в народной памяти до сих пор. XVI столетие явилось эпохой наибольшего развития центробежных сил внутри Японского государства. Авторитет сеогуна пал; властолюбивые феодалы вели нескончаемые войны друг с другом, стремясь захватить столицу, чтобы повелевать страной от имени сеогуна или императора.
В 1525 г. у одного бедного крестьянина, в маленькой деревушке вблизи Нагой (область Овари), в день Нового года, с первыми лучами солнца, родился мальчик, получивший имя Хиёси, в честь бога Света. Земледельческий труд не привлекал мальчугана. Он предпочитал военные игры с деревенскими ребятами, нередко портя при этом огороды и рисовые поля. А когда отец решил отдать его в буддийский храм, двенадцатилетний Хиёси бежал из дому. Три года бродил он по стране; был и дворником у самураев, и приказчиком у купцов, и продавцом в лавке. Однажды весеннею ночью он беспечно улёгся спать на мосту через речку Янаги, прикрывшись только рогожей. Случилось так, что один из «свободных самураев»,главарь шайки, Хачисака Гороку, проходя по мосту, наступил в темноте на мальчика. Вскочив, рассерженный Хиёси выхватил пику из рук Хачисаки и отчитал его за неучтивость. Хачисаку позабавила смелость мальчишки, и Хиёси был взят в шайку. Там он встретил своего товарища детских игр Томаичи, мечтавшего, как и Хиёси, стать первым лицом в стране. Через полгода они ушли из шайки вместе и, расставаясь, условились встретиться не раньше, чем станут первыми людьми Японии. Хиёси временно приютился в храме, где священником был его дядя.
Оота Наганобу, князь этой области, был молод, храбр, талантлив, вспыльчив, но отходчив. Его чудачества и причуды сделали имя его известным далеко за пределами области Овари. Однажды князь, после целого дня охоты, попал в тот храм, где нашёл приют Хиёси. Князь потребовал чаю. Мальчик налил чашку и поднес её высокому гостю. Князь выпил чашку залпом и потребовал вторую, оказавшуюся горячее и гуще первой, потом третью — ещё более густую и ароматную.
«Это ты приготовил?» — спросил князь. «Так точно». — «А почему ты так точно похож на обезьянку?» — пошутил князь Оота. «Это обезьяна похожа на меня, ваше сиятельство», — ответил мальчик. Ответ понравился князю, и Хиёси был взят к нему на службу конюшенным и блюстителем княжеской обуви. Никто не знал, когда понадобится чудаку князю лошадь и обувь для его внезапных выездов, но Хиёси угадывал это каким-то чутьём. Обувь и лошадь всегда были в порядке, и князю нравилось, что маленькая фигурка «обезьянки» всюду сопровождает его.
В 1542 г. соседний князь Имакава Мотоёси с десятитысячным войском вторгся в область Овари, стремясь пробиться к столице государства. Тревога охватила княжеский замок; не потерял спокойствия только сам князь Оота. Даже вечером, когда пришла весть о захвате врагом главной крепости, князь продолжал развлекаться игрою на флейте и пляской. Но рано утром он был уже на ногах и, выйдя во двор замка, увидел Хиёси и готовую лошадь. Достигнув через два часа храма Айчи, он вознёс молитвы богу Войны и быстро собрал небольшое войско (около 500 человек).
По деревенским тропинкам отряд бросился навстречу врагу и вечером, воспользовавшись долго собиравшейся грозой, молниеносно обрушился на лагерь князя Имакава, беспечно отдыхавшего в долине. Имакава был обезглавлен, его войска обращены в бегство. В эту минуту появилась шайка Хачисаки с Хиёси во главе, пока князь Оота молился в храме Айчи, Хиёси успел поднять своих бывших друзей. Шайка напала на обоз неприятельской ставки и перерезала запасному отряду дорогу на помощь. Князь Оота наградил всех членов шайки, и Хиёси был произведён в самураи и сделан командиром отряда из 25 человек. Отныне он принял имя Киносито-Тосичиро Иосихидэ, а солдатами в свой отряд он взял старинных товарищей своих игр из родной деревни.
Всё возраставшими успехами, как на войне, так и в делах администрации и хозяйства, Иосихидэ был обязан своему усердию и уму. Обладая ловкостью и юмором и хорошо изучив характер князя Оота, он пользовался его неизменной любовью и с каждым годом поднимался по ступеням военных чинов и придворных званий.
Северным соседом князя Оота был сильный и богатый феодал князь Сайте, владевший областью Мино; границей между владениями обоих князей служила большая река Исо. В продолжение многих лет князь Оота пытался воздвигнуть на самом берегу реки сильную крепость, но это не удавалось ему, так как каждый раз, едва строительные работы развертывались, северяне нападали на постройку и разрушали её до основания. Однажды князь Оота сказал в шутку своему любимцу: «А не хочешь ли, Обезьянка, стать начальником крепости? Займись этой постройкой!» — «С радостью», — ответил Иосихидэ совершенно всерьёз.
И вот в одно хмурое майское утро северяне, к немалому своему изумлению, увидали сквозь рассветный туман на другом берегу реки Исо, ещё вчера совершенно пустом, могучий замок. Его чёрные кровли и белые стены грозно возвышались над речною кручей, а золочёный гребёнь в форме рогов — заклятие от злых духов — венчал здание. Вооружённые фигуры часовых различались повсюду: граница охранялась и непонятным образом, за одну ночь, была укреплена. Растерявшиеся северяне прекратили нападения. И никому из них не пришлю в голову, что это лишь декорация из бамбука, досок, бумаги и рогожи, а по ту сторону декорации кипит работа. Солдаты, крестьяне окрестных деревень и их батраки с лихорадочною поспешностью сооружали настоящий укреплённый замок; ни один солдат не был даже оставлен на карауле, а те, кого принимали за пограничную стражу северяне, были всего только женщины с детьми в соответствующих нарядах. Через неделю замок был построен, декорация брошена в реку, а Иосихидэ назначен начальником новой крепости. С этого времени присвоив себе новую фамилию Масиба, он, по примеру других японских полководцев, учредил своеобразное боевое знамя: оно было украшено золочеными бутылочками из тыквы, по числу одержанных им побед. Каждая новая победа знаменовалась новой бутылочкой, а победы всё множились и множились, ибо И. умел привлекать к себе сердца самураев и солдат, а ум его и хитрость подсказывали ему нововведения в тактике и во всевозможных ухищрениях на поле боя.
По мере того как князь Оота расширял свои владения и становился могущественнейшим феодалом в Центральной Японии, знамя И. начинало сгибаться под тяжестью золотых тыквочек. Наконец, в 1565 г. Оота вступил в столицу Киото, став фактическим повелителем большей части страны. Император принял его во дворце и пожаловал титулом Министра Правой руки, а И. был возведен в звание князя.
Три года спустя, покоряя Западную Японию во главе двенадцатитысячной армии, И. осадил сильно укреплённый замок Акамацу, построив плотину, при помощи которой вся окружающая местность была затоплена. Но в городе Осака, куда князь Оота вошёл со своим сыном-наследником, чтобы руководить кампанией, их обоих подстерегала гибель. Князь Такечи Хидемицу, надменный аристократ, которого Оота не любил за педантизм и неловкость и наконец поставил под начальство Обезьянки, поднял бунт и убил своего сюзерена вместе с его сыном. Иосихидэ получил эту страшную весть в своем лагере перед полузатопленным замком Акамацу. Стояла ночь полнолуния. Погружённый в свои мысли, И. бродил по берегу образовавшегося озера. Таинственная плачущая мелодия бамбуковой дудочки зазвучала с башни осаждённого замка; казалось, что поёт луна. Но когда очарованный музыкой И. приблизился к замку, вероломная пуля — «анега-сима» — просвистела около самого его уха.
Утаив гибель князя Оота от своих войск, И. продолжал осаду. Через два дня начальник замка капитулировал и в лодке перед ставкою победителя честно совершил харакири.
На помощь побеждённым приближались сильные войска другого князя, но И. немедленно послал к нему парламентера с сообщением о смерти князя Оота и с требованием — от имени всего самурайства — перемирия для отдания похоронных почестей покойному и для возмездия изменнику. Едва перемирие было заключено, И. помчался в Осаку, приказывая всюду по пути заготовлять воду и продовольствие для движущихся за ним войск. Проделав 100 ри (400 км) в три дня, он достиг города и с быстротою духа приготовил всё, что было необходимо для решительной битвы с изменником Хидемицу. Особенное значение имели изобретённые им боевые повозки, предварявшие танки нашего времени: то были ручные телеги, обшитые жестью, и с деревянными трубами для фейерверка. Генеральное сражение произошло между Осакой и столицей Киото. Потрясённый быстротой действий И., обессиленный всеобщей к себе ненавистью и вдобавок обескураженный видом «танков», Хидемицу пал духом, обратился в бегство и по пути был убит крестьянами.
Таким образом, из множества вассалов князя Оота только один Обезьянка, находившийся в далеком походе, смело и энергично выполнил свой долг мщения. Это выдвинуло его на первое место среди феодалов и это же возбудило их зависть. Но, быстро и ловко организуя коалиции то против одного, то против другого, И. разбил и подчинил своих врагов одного за Другим. К 1578 г. И. стал, наконец, первым лицом в Японии, фактически сосредоточив в своих руках военную и гражданскую власть. Столетние междоусобия прекратились. Народ возвращался к труду.
Но и первый человек в государстве должен был в эту эпоху, чтобы удержаться на достигнутой высоте, признать превосходство императора. Микадо сохранял власть номинально и озарял подлинных правителей блеском своего вечного ореола. Поэтому И. прежде всего воздвиг в загородной местности роскошный дворец, названный Дзюраку («коллекция наслаждений»), и пригласил туда микадо со всем его двором. Подобного шествия Япония не видала уже свыше двухсот лет. Великолепие процессии было таково, что народ, повергаясь ниц, рыдал от восторга и благоговения. Во дворце Дзюраку И. принес императору торжественную присягу, а во время пиршеств, продолжавшихся три дня, сам исполнил древнюю военную пляску. Растроганный микадо пожаловал ему высший титул «регента — верховного министра» и славную старинную фамилию «Тачибано»: так называется особый род миндаля, ароматного и дарующего долголетие.
Разумеется, постройка дворца Дзюраку была только началом, за нею последовали: сооружение колоссального замка Осака, в котором принимали участие все князья, и памятниками их соревнования доныне остаются огромные камни знакомых стен; сооружения большого канала Осака — Цуруга — через Центральную Японию; постройка знаменитого буддийского храма Дайбуцу в городе Нара, причём у исполинского бронзового будды VIII в., помещённого в храм, была реставрирована голова, расплавившаяся от огня в эпоху междоусобий. Во время работ на горе Ооэ были обнаружены залежи руды, при плавке которой получили белый нержавеющий металл (то был никель). Отлитые из него громадные колокола были розданы храмам во всех областях Японии, и самый большой из них, диаметром 10 м, до сих пор хранится в Киото.
Не менее важно было покровительство, которое И. оказывал торговле, особенно внешней, построив большой торговый флот. А в области финансов он прибегнул к остроумному, хотя и несложному средству, поднявшему доход казначейства в несколько раз. Средство это заключалось в выпуске монеты огромной величины, в десять раз больше обыкновенного кабана; сто таких монет помещались в специальный ящик, запечатанный печатью главного казначея. Никто не мешал, таким образом, казне выпускать монету, полую внутри, и, запечатывая её в тяжелый ящик, заставлять принимать её как полноценную.
В молодости И. был лишён возможности учиться. «Подписать своё имя — вот грамота!» — говаривал он тогда. Тем больше достоинства видят японские историки в том, что, будучи малограмотным, он оказывал покровительство наукам и искусству. Он восстанавливал разрушенные памятники, собирал коллекции художественных изделий, а во дворце Дзюраку были учреждены библиотека, музей, театр и художественные мастерские. Он охотно принимал католических миссионеров, появившихся в то время в Японии, построил для них церковь в столице, в 1590 г. отправил с ними в Европу четырех японских мальчиков для ознакомления с далёкой чужой культурой.
Среди японской знати того времени распространялся своеобразный обычай чаепитий в утончённой обстановке, преимущественно в специальных изящных беседках, расположенных в саду или вообще в красивой местности. И. принялся ревностно изучать этикет этих чаепитий, этот обряд, доведённый до уровня настоящего искусства, — так называемый «садоо». Наставником правителя был глубочайший знаток этих церемоний Кон-но Рисю. Однажды, когда И. хвалился перед учителем чистотою чайной беседки и хорошо подметённых дорожек, ибо считалось, что чистота — важнейший элемент «садоо», Рисю молча вышел в сад и потряс два-три деревца. Пурпуровые и бледно-розовые осенние листья осыпали газон. И внезапно И. стало ясно, в чём заключается подлинное «садоо».
Между тем многие богачи, видя, чем увлечен верховный министр, начали приобретать драгоценную утварь, роскошную посуду и отягощать утончённо простой обычай показною пышностью. И вот И. пригласил однажды нескольких знакомых людей на чаепитие в небольшой буддийский храм. Храм этот был издавна известен необыкновенно красивой расцветкою осенней листвы деревьев около здания и живописным рельефом окружающей местности. И. встретил гостей на крыльце храма, одетый в скромное платье простого старика, с колпачком на голове. Он провёл их внутрь здания, раздвинул окна в сторону горы Такао, одни склоны которой предстали огненно-красными, другие — янтарно-жёлтыми, и приготовил чай. К чаю были поданы лишь кое-какие сласти. Не дождавшись ничего другого, гости невольно выдали своё недоумение и разочарование. И только Рисю, великий знаток «садоо», испытал глубокое удовлетворение, убедившись, что И. вполне проникся чистой и изящной мудростью этого искусства. Он воскликнул: «Вот это — истинный дух «садоо»!
В это время широкою известностью в Японии пользовался неуловимый разбойник Нисикава Рокуэмон. Он никого не убивал, грабил только богачей и казну, а награбленное раздавал бедным. Наконец этот Нисикава осмелел до того, что наклеил на ворота дворца Дзюраку открытое письмо к И., требуя крупного пожертвования в пользу бедных.
Несколько дней спустя телохранители И., уснувшие глубокой ночью в его покоях, внезапно были разбужены звонкой игрою музыкальной шкатулки. Эта драгоценная шкатулка была подарена хозяину иезуитскими миссионерами; но почему она заиграла сама ни с того ни с сего тёмной ночью? Музыка удалялась. Бросившись вдогонку, телохранители заметили человеческую фигуру, пытавшуюся спастись бегством. Вор оказался знаменитым Нисикавой. Незнакомый с назначением музыкальной шкатулки и прельстившийся лишь её видом, он в первый раз в жизни попал впросак. Допрашивать задержанного решил сам И.
— Ты забыл меня, Хиёси! — молвил разбойник. — Мы были товарищами: я — Томаичи, и сегодня — то самое свидание, о котором мы условились когда-то, ты стал первым лицом света, а я — тьмы! Ты — представитель знати, я — друг народа. Но своей славе ты принес горы жертв, а я никогда не проливал крови.
— В твоих словах — доля правды, — сказал И., — но в Японии теперь тебе уже нет места. Ступай в новый мир! — И он выслал Нисикаву с женою и сыном на остров Тайвань, в то же время открыв беднейшей части народа казённые склады продовольствия.
В дни своей молодости И. любил сестру своего сюзерена князя Оота, но, сознавая подчинённость своего положения, он это чувство подавил в душе. Позднее он женился на дочери своего товарища по военной службе и был добрым мужем, хотя жена не принесла ему ни одного ребёнка. Но когда он узнал, что одна из дочерей-сироток некогда обожаемой им сестры князя Оота стала блестящей красавицей, сердце его задрожало, как у двадцатилетнего юноши. Призвав на помощь всю свою хитрость, опытность и настойчивость, он преодолел все препятствия, и молодая красавица стала его второй женой. Когда же она родила ему сына, он почёл себя счастливейшим человеком на свете.
Теперь, когда в стране всё стало спокойно, И. начинал подумывать о восстановлении славы японского оружия. Страна Кимос, расположенная на недалеком от Японии полуострове, издавна была связана с нею дружественными сношениями. Эти сношения оборвались вследствие длительных японских междоусобиц. В 1591 г. И. отправил в государство Кимос посольство с предложением восстановить старую дружбу. Но государство Кимос уже подпало под влияние сильной северной державы Шаор; король Ер Син ответил японскому послу отказом и притом в столь оскорбительной форме, что И. почёл за лучшее направить в страну Кимос экспедиционный корпус. Кимосские войска, в дружном взаимодействии с шаорскими волонтерами, вели оборонительные бои, заставляя противника нести огромные потери в живой силе и технике, будучи, однако, не в силах бороться против изобретённых И. танков. Уже один вид этих тележек, тарахтящих по полю, сверкающих на солнце своей жестяной обшивкой и то и дело запускающих фейерверк, повергал кимосские войска в панику. С помощью танков 1-я самурайская армия заняла город Хено-Янт, а 2-я армия через Санш-Сон вступила в Южную часть Шаор, где захватила в плен двух кимосских принцесс — Синей и Сики. На море флот И. потопил флот противника около острова Жеджело, где, говорят, на его стороне сражались также корабли изгнанника Нисикавы Рокуэмона. Король Ер Син просил о мире. Переговоры начались в городе Сойке, в атмосфере взаимного понимания. Но когда делегаты противной стороны предложили И. окончательный текст мирного договора, оказалось, что в этом документе нашли место совершенно абсурдные формулировки. Там значилось, например, что мира будто бы просил не кимосский король, а И., за что ему присваивался, вопреки здравому смыслу, титул «японского короля» и жаловался орден «Любителей безмятежной тишины и неомрачаемого спокойствия». Взбешённый И. разорвал текст договора, выгнал делегацию и возобновил военные действия, но внезапно заболел и в 1597 г. скончался. Экспедиционная армия пала духом и эвакуировалась на родину в следующем году.
В эпическом произведении «Тайкоо ки» повествуется о смерти И. следующее. Когда постройка большого замка Осака была почти закончена, солнце уже закатывалось, но, глядя на своё грандиозное сооружение, И. почувствовал, что на свете нет ничего для него невозможного. «Завоевания и совершенствование природы, — возгласил он, — являются делом начальствующих лиц. В этом отныне мой долг перед народом. Остановись, солнышко, помоги!» И золотым вечером он подозвал великое светило. Совершилось чудо, солнце вернулось в зенит, и постройка была закончена в тот же день. Но за эту непочтительность по отношению к солнцу И. был наказан убийственной горячкой. Его комнату наполнил нестерпимый жар; медицинский персонал героически выполнял свой долг в одних набедренных повязках; а когда И. опустили в холодную ванну, вода странно забулькала, оказалось, что она уже кипит.
Впрочем, эти факты недостаточно всесторонне ещё изучены нашими историками.
После смерти И. капризный характер его высокомерной вдовы и своеволия её фаворитов оттолкнули от сироты-наследника верных князей и полководцев. Их постепенно перетянул на свою сторону осторожный, терпеливый и умный старик князь Токигава. В 1602 г., после ряда военных столкновений, пал замок Осака, и вся династия Тачибана погибла. Власть перешла к роду Токигава, сумевшему удержать её свыше двух с половиной веков.
(*) Живя в глухих деревнях и наблюдая за войнами феодалов, «свободные самураи» (попросту разбойники) оказывали иногда услуги одной из борющихся сторон, а после сражений — раздевали трупы и захватывали оружие.

Знаменитый военачальник Древней Греции Тимей родился в Галикарнассе, чем и объясняется его прозвище. Учился он в Афинах. Прославился в междоусобных войнах, которые греческие государства вели в ту эпоху почти непрерывно.
Сражаясь на стороне Фив против Спарты, Т. одержал ряд крупных побед, но вскоре, обиженный интригами беотийской знати, перешёл к спартанцам.
Предводительствуя войсками последних, Т. также добился серьёзных успехов. Однако, недовольный происками спартанской аристократии, по-видимому, боявшейся возвышения Т., и разгневанный недостаточно щедрым, по его мнению, вознаграждением, он перешёл на службу афинской демократии.
Начальствуя над афинским флотом, Т. провёл несколько победоносных походов в Малую Азию. За это он потребовал отличий и большого вознаграждения.
Притязания Т. повели к озлоблению против него вождей демократии, к взаимным интригам и раздражению. Тогда Т. бежал и передался малоазийским правителям. Поступив здесь на военную службу, он после непродолжительного периода успешных боевых действий поссорился с аристократией городов и областей Малой Азии и скрылся в Беотию, в Фивы.
Командуя беотийскими войсками, Т. одержал ряд побед над афинянами, но вскоре, не поладив с правителями Фив, он перешёл на сторону противника.
Приняв снова командование над афинским флотом, Т. успешно воевал у берегов Малой Азии, а затем и на суше, где, предводительствуя тяжёлой пехотой, нанес серьёзное поражение беотийскому ополчению. Тем не менее вскоре Т. остался недоволен вознаграждением и бежал в Сицилию, где поступил на военную службу в Сиракузах. Здесь, по преданию, он был убит.
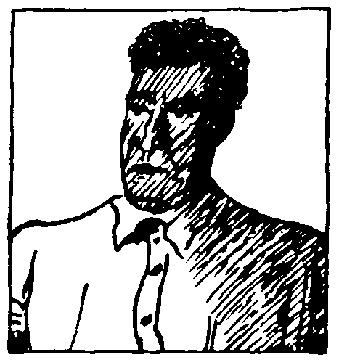
Молодые годы Бенито Умберти, позднее заставившего так много говорить о себе архитектурные круги Европы, не ознаменовались никакими выдающимися творческими достижениями.
Специализировавшийся на проектировании частных загородных вилл для представителей деловых кругов Италии, архитектор проявил себя как убеждённый последователь школы Корбюзье. Художественное оправдание своим сооружениям, расположенным в загородной местности, он стремился найти не в гармонии между ними и пейзажем, а, напротив, в максимально резком противопоставлении их силуэтов, соотношении их масс, их архитектурных элементов, их облицовки и расцветки окружающей природе.
Эстетическая мода 20-х гг. нашего столетия всецело определила собою творческую манеру Умберти; теперь, по прошествии нескольких десятилетий, эти фешенебельные виллы в Палермо, на Кипре, в окрестностях Неаполя, на Ривьере производят странное и подавляющее впечатление сухостью своих линий, резкой подчёркнутостыо урбанистического начала, мертвенно-мрачным цветом своих стен, — всем тем, что в двадцатых годах воспринималось как высшее проявление вкуса, культурности и ума. С каким-то угрюмым вызовом выделяясь на фоне неба, многокрасочной земной поверхности и ослепительного моря Италии, эти здания кажутся нашей эпохе порождениями абстрагирующей кабинетной мысли, потерявшей связь с жизнью и вкус к ней. Нам странно, что в то недавнее время обитание в этих мёртворожденных сочетаниях голых геометрических форм могло представляться высшей ступенью благополучия.
Постройка подобных вилл для богатых заказчиков привела к тому, что в руках архитектора вскоре оказалось значительное состояние.
Неразработанность биографических материалов и отсутствие сколько-нибудь обстоятельной монографии, посвящённой У., мешают нам уяснить, какими путями и под влиянием каких жизненных явлений мысль этого художника пришла к парадоксальным выводам, определившим второй, последний период его деятельности. Однако некоторые указания мы можем почерпнуть в его собственной книге «Жилище как орудие физического воспитания» — единственной теоретической работе, оставленной им потомству. Во введении к своему труду автор, между прочим, говорит следующее: «Обстоятельства моей жизни и работы способствовали тому, что при выполнении заказов для наиболее состоятельных представителей нашего общества я имел возможность всесторонне ознакомиться с укладом жизни, с будничным бытом этого круга, с характером времяпрепровождения, привычками и наклонностями, в нем господствующими. Я не хочу делать мрачных прогнозов. Ещё менее стремлюсь я очернить или принизить уровень умственного развития и эстетической утонченности людей этого блистательного мира. Именно горячее желание удержать этот общественный слой от движения по нисходящей, оградить его от ужасов деградации, способствовать его физическому и волевому оздоровлению стало руководящим началом моей профессиональной деятельности».
Это откровенное признание человека, сознательно отдающего свой талант на службу магнатам крупной собственности и с каким-то, сказали бы мы, наивным цинизмом полагающего смысл своей жизни в работе на пользу узкого круга баловней судьбы, достаточно характерно само по себе. Но что же, собственно, предлагает У. для спасения капиталистической верхушки от «ужасов деградации» Какую панацею измыслил этот изолированный от своего народа эстет, этот поборник привилегированной касты?
Исходный тезис У. заключается в мысли, будто бы жилой комплекс должен быть не просто местом повседневного пребывания человека, но именно в силу того, что он является жизненной средой людей в продолжение большей части суток, он призван максимально способствовать физической и нервной закалке своих обитателей. Если до сих пор усилия строителей направлялись на создание в жилом доме максимума комфорта, то отныне эти усилия следует направлять на почти противоположную цель: сконструировать жилище таким образом, чтобы каждый шаг, каждое движение обитателя наталкивались бы на физическое препятствие. Именно преодоление этих препятствий должно было, по мысли У., стимулировать всестороннее развитие мускулатуры, повышение жизненного тонуса, закалку нервной системы, укрепление воли. Всё здание понималось как своеобразный физкультурный комплекс, как сильное средство пробудить в изнеженном буржуа вкус к жизни и бесстрашие перед препятствиями. Такова глубоко реакционная сущность теории У.
Хорошо известно, как часто в эпоху упадка господствующего класса реакционные течения в искусстве облекаются в мнимо-революционную форму. Эта закономерность блистательно подтверждается и на примере теории У., или, как он называет её, «стиле гимнастико». Сверхфутуристический интерьер, ультралевое понимание и использование пространства, превращение дома в комбинат самых рискованных аттракционов, а всей жизни хозяев и слуг — в непрерывную цепь замысловатых трюков — таков рецепт, предлагаемый У. для того, чтобы повернуть вспять колесо социально-исторических процессов.
Понимая, что вряд ли он сыщет в Италии охотников пустить на ветер своё состояние ради осуществления подобного плана, У. решается построить в стиле «гимнастико» виллу для самого себя. Затраты его не смущают. Покупается участок в самом фешенебельном районе Капри. Здание приподнимается над землёй и опирается на четыре наклонно стоящие фермы, напоминая своим экстерьером гимнастического коня. Этот несуразный силуэт делается господствующим над одним из чудеснейших уголков Италии. Но главное заключается в интерьере здания. Этот интерьер, жизнь архитектора в необычайной обстановке и вскоре затем его смерть попадают на некоторое время в центр внимания итальянской общественности. Поднимается буря насмешек, рождаются анекдоты, возникают целые легенды о хозяине виллы Гимнастико и о его приключениях внутри собственного обиталища. Каково же устройство этого обиталища в действительности?
Первый шаг посетителя, едва переступившего порог виллы, предупреждает его, что здесь следует быть настороже; панели, составляющие пол, начинают вдруг выскальзывать из-под его ног, двигаясь взад и вперёд, подобно тому, как это практикуется в низкопробных аттракционах Луна-парков. Ступени лестницы приходят в движение, едва нога человека опускается на первую из них. Они ёрзают справа налево и слева направо, в то время как перила предательски ныряют вниз, как только вы пытаетесь сохранить равновесие при их помощи. Понимание пола как ровной поверхности для спокойной ходьбы объявляется устаревшим: взамен него создаётся бесформенное нагромождение глыб разной величины, преодоление которых должно повседневно укреплять мускулатуру икр, бёдер и поясницы. Дверь, которую вы слегка толкаете вперёд, с неестественной быстротой устремляется в противоположном направлении, грозя расшибить вам лицо: это должно способствовать развитию вашего самообладания и находчивости. Когда вы заносите ногу, чтобы перешагнуть несуразно высокий порог при входе в гостиную, этот порог внезапно проваливается, и вместо него перед вами оказывается зияющая пустота, причём сверху молниеносно спускаются гимнастические кольца: уцепившись за них, вы можете, наконец, лопасть в помещение для приёма гостей, кстати поупражняв мышцы ваших рук, плеч и лопаток. Но вот опасное путешествие кажется оконченным: выбившись из сил, вы пробрались в гостиную и опускаетесь в низкое комфортабельное кресло. Но едва пружины кресла подаются под вашей тяжестью, как мощная струя леденящего ветра охватывает ваше разгорячённое тело: этим способом ваш организм должен приучаться к резким сменам температуры.
Наиболее экстравагантный номер был, однако, припасён хозяином для подступов к его собственному кабинету. По мысли архитектора, посетитель, измученный всеми мытарствами виллы Гимнастико, должен был тем глубже прочувствовать сладость заслуженного отдыха в хозяйском кабинете. Эта комната отвечала всем современным требованиям самого изысканного комфорта. Но вход в неё имелся лишь один, и гость, не решившийся преодолеть этих последних испытаний, принуждаем был возвратиться к исходной точке своего путешествия, не получив даже насущно необходимой передышки. Кабинету предшествовал довольно обширный зал, около семи метров высотою, во всю свою ширину украшенный глубоким водоемом. Вход, или, вернее, влаз, в кабинет виднелся в противоположной стене, на высоте четырех метров над водой. Это было отверстие без двери, с небольшою, лишённою перил площадкой перед ним. Для того чтобы достигнуть этой площадки, следовало воспользоваться подобием пожарной лестницы, поднимающейся к потолку сразу же подле двери, через которую вы вошли в зал, загибающейся под прямым углом над водоемом, проходящей горизонтально под самым потолком и спускающейся затем к воздушной площадке перед отверстием кабинета. Таким образом, посетителю предлагалось совершить часть путешествия повисая на руках и перебирая ими металлические перекладины, в то время как тело его качалось в воздухе без всякой опоры. При этом его должна была утешать мысль, что в случае падения несчастье ограничится простым купаньем в холодной воде.
Естественно, что не только постройка, но и обслуживание подобного жилища требовало огромных затрат. Известны колоссальные, прямо-таки баснословные оклады, которыми У. привлекал к себе тех, кто составил штат его прислуги. Известно также, что ему не удалось найти человека, согласного обслуживать его кабинет; поддержание порядка в этом таинственном покое осталось неприятной, хотя, быть может, и оправданной в качестве наказания обязанностью хозяина.
Нас не должно удивлять, однако, что в Италии нашлись пресыщенные, жаждущие острых ощущений бездельники, усмотревшие в выдумках У. новый способ щекотанья нервов и насыщения жизни призрачным содержанием. Не говоря о Габриэле Д'Аннунцио, со свойственной ему страстностью выступившем на защиту «стиля гимнастико», и генерале Иниго ди Виченца, не решившимся, правда, лично посетить виллу Умберти, но выражавшим сочувствие его идеям, приходится упомянуть о графе Чиано, который часть одной из своих вилл оборудовал согласно указаниям У.
Но более широкого признания своих идей архитектору не суждено было дождаться: в ноябре 1932 г., преодолевая препятствие по пути в свой кабинет, он сорвался с потолка и, падая в водоем, ударился затылком о ту самую воздушную площадку, которая сулила отдых всякому, решившемуся преодолеть сюрпризы виллы Гимнастико до конца.

Джордж-Эньюрин Феншоу родился в Гленди-Лейкс (Шотландия) в семье пастора. С детства он обнаружил выдающиеся способности к языкам, самостоятельно овладев греческим, и в семилетнем возрасте читал наизусть «Илиаду».
Поступив в 1851 г. в университет в Глазго на богословский факультет, Ф. скоро обратил на себя внимание профессора классической филологии Брендиуотера, поражённого широтою и глубиною знаний молодого студента. Брендиуотер предложил Ф. перейти на филологический факультет, гарантируя ему блистательную и быструю академическую карьеру. Лестное приглашение почтенного профессора полностью отвечало желаниям Ф., однако отец и дед его категорически отказались дать согласие на такую измену традициям семьи. Только авторитетное вмешательство епископа Гальверстона, личного друга Брендиуотера, смогло устранить это препятствие.
В 1855 г. Ф. окончил филологический факультет со степенью бакалавра искусств (В. А.) и уже в 1856 г. блестяще защитил диссертацию на степень магистра искусств (М. А.). Тема диссертации — Сравнительное исследование применения Ablativus absolutus в письмах Гальбидия и трактатах Поркутеллы .
Неожиданный конец карьеры Ф. в родном университете положил случайный инцидент: в одном из диспутов Ф. имел неосторожность высказать предположение, что глагол ξυρπσυομαη, на анализе которого Брендиуотер построил свою остроумную теорию взаимных влияний аттического и ионийского диалектов, является на самом деле лишь искажённым одним из копиистов общеизвестным глаголом αρπωυωμα. Взбешённый смелым выступлением своего ученика, Брендиуотер тут же потребовал от Ф. или отказа от «его оскорбительного предположения», или ухода из университета. Ф., выявив свой темперамент страстного бойца за научную истину, предпочёл последнее. В 1859 г. он переезжает в Лондон, где поступает на службу в библиотеку Британского музея. Этот шаг сыграл роль переломного этапа в жизни Ф.: он оставляет традиционный путь филолога-классика и переходит к новой сфере деятельности, доставившей ему впоследствии научную славу.
Дело в том, что, исходя из овладевшей к этому времени умами современников идеи Дарвина об эволюции органической природы, Ф. решает посвятить себя изучению начальных, дописьменных стадий речи и в этих целях переходит к изучению языков наиболее примитивных народов нашего времени.
Познакомившись лично с Ливингстоном, вернувшимся в Англию после своего первого путешествия, Ф. избирает целью своей первой экспедиции Центральную Африку. В январе 1860 г. он высаживается в Кэптауне и до конца 1863 г. путешествует по бурским, английским и португальским владениям, изучая языки негров банту, ряда кафрских племён и особенно небольшого племени бхандго, открытого им в верховьях реки Замбези. В главном поселке этого племени Горгхэ он проводит безвыездно около двух лет, в совершенстве изучив язык бхандго, привлёкший его своей самобытностью и примитивностью. За это время Ф., отличавшийся гуманным и мягким характером, стал общим любимцем племени. Отъезд Ф. был для бхандго настоящим горем, и до сих пор они передают из уст в уста рассказы о Нга-Нгу («Розовомордый могучий гиппопотам, пускающий дым из ноздрей», прозвище, данное ими нашему учёному). Вернувшись в Лондон, Ф. проводит 1864 г. и часть 1865 г. за обработкой вывезенных им обширных этнографических коллекций и лингвистических материалов. В конце 1865 г. он публикует свою книгу — «Два года среди бхандго. Опыт исчерпывающего описания одного из современных примитивных племён». Книга расходится в течение двух недель, Ф. приглашают сделать доклад в Королевском обществе, Британский музей организует специальную выставку его коллекций, а Лондонский университет присуждает ему степень доктора философии honoris causa. Ф. получает почётный пост заведующего этнографическим отделом Британского музея и работает здесь до 1878 г. За это время он совершил ряд поездок по островам Океании и Полинезии, результатом которых явилась его, основанная на филологических данных, теория «политопического заселения» этих островов. Экспедиции Ф. субсидировались Королевским Географическим обществом. К концу указанного периода у Ф. созрел план новой большой экспедиции в Центральную Австралию. При этом он решает избрать новый, по его мнению, более плодотворный путь изучения быта и языка дикарей. Не гостем-чужаком, а рядовым членом племени нужно стать тому, кто хочет понять примитивный народ до конца; нужно жить всей повседневной жизнью изучаемого народа, проникаться его психологией, переносить с ним всю тяжесть борьбы за существование, внутренне переродиться самому.
Никаких записных книжек, никаких альбомов! Только после нескольких лет такой жизни можно рассчитывать на действительно глубокое знание, можно избежать «научного гастролерства» исследователей, считающих себя вправе после месячного скольжения по поверхности жизни какого-нибудь народа заполнять объёмистые тома рассуждениями о всех интимнейших сторонах его мироощущения и жизни.
Ф. начинает готовиться к поездке ещё в Лондоне — он постепенно заменяет всё более значительную часть своего пищевого рациона листьями и корнями различных растений, сырыми насиженными яйцами птиц, улитками и даже дождевыми червями и пауками. Неоднократно его желудок бурно протестовал против такого насилия, но упорство духа учёного превозмогало эти досадные проявления слабости плоти.
В начале 1879 г. пароход доставил нашего учёного в Сидней. Он направляется в Квинсленд и останавливается на несколько дней на одной из граничащих с пустыней скотоводческих ферм. Отсюда Ф. пишет последнее письмо Географическому обществу, в котором просит не искать его ранее истечения десяти лет, обещая к этому сроку вернуться на эту же ферму.
Намеченный срок прошёл, но Ф. не появился. Географическое общество начало поиски, которые долго не давали никакого успеха, хотя в них, кроме двух небольших отрядов общества, принимали участие и местные власти, и золотоискатели, и охотники.
Только в 1893 г. Ф. был найден. Ни ограниченность объема настоящей статьи, не недостаточные способности пишущего эти строки не дают возможности изложить это знаменательное и драматическое событие с должной полнотой повествования и подобающей глубиной психологического анализа. Отметим только, что Ф. был обнаружен на положении вождя небольшого (около 40 человек, считая детей) бродячего рода туземцев, относившихся к нему с подлинным пиететом. Стоило большого труда добиться от него признания того, что он действительно исчезнувший учёный и ещё больший труд и, к сожалению, даже прямое насилие над самим Ф. и над его, так сказать, подданными понадобились, чтобы вернуть его в лоно цивилизованного общества.
В течение кратковременного пребывания нашего учёного в Сиднее и во время всего переезда на пароходе в Лондон он неустанно и бурно протестовал против этого насилия выкриками на непонятном для добрых англичан языке, категорическим отказом от обуви и одежды, яростной жестикуляцией, переходившей нередко, к прискорбию всех окружающих, в весьма чувствительные физические воздействия на них. Упорно отвергая общепринятый способ приема пищи, Ф. не признавал никаких промежуточных орудий между пищей и ртом, кроме собственных рук. Постель в его каюте оставалась нетронутой — он спал только свернувшись на голом полу.
По прибытии в Лендом Ф. был помещён в небольшом загородном доме, где Географическое общество, в воздаяние прежних его заслуг, окружило его тщательным и бдительным уходом и наблюдением врачей. Состояние учёного в первые месяцы заставляло опасаться за возможность его возвращения к полноценной жизни, но в дальнейшем в его поведении наступил благотворный перелом.
В современной технике кино известен приём, заключающийся в том, что медленно текущие события, например рост растения, запечатлеваются на пленке кадр за кадром через значительные промежутки времени. Если затем снятый таким образом фильм пустить с нормальной скоростью, то явления, занимавшие многие дни и месяцы, плавно и гладко протекают на экране за ограниченное число минут.
Нечто подобное, казалось, можно было видеть и наблюдая Ф. в описываемое нами время. Он как будто бы шаг за шагом на глазах окружающих проделывал тот длинный исторический путь, который человечество прошло от жизни примитивных детей природы до изощрённости европейской культуры и цивилизации конца XIX в.
Более или менее полное восстановление личности Ф. произошло на протяжении двух лет. Его рассказы о пережитых с дикарями приключениях, об их жизни, обычаях, верованиях становились всё более содержа тельными и интересными. Коллеги учёного советовали ему немедленно приступить к детальному научному описанию его не имеющего прецедента опыта, однако Ф. ещё долго отказывался от этого.
Следует отметить, что время от времени им овладевали своеобразные приступы возврата к его недавнему прошлому, иногда в самые неожиданные и неудобные моменты. Так, однажды в 1899 г. он согласился выступить с докладом о верованиях австралийских туземцев перед Этнографическим обществом. Нужно ли говорить, что общество собралось in corpore и вместительный зал был полон публики. Ф. полностью овладел вниманием аудитории. Он в сильных, сжатых выражениях, подкрепляя свои тезисы яркими примерами из жизни дикарей, изложил основы их мироощущения — всеобъемлющий преанимизм, магические представления и обряды, отчётливо окрашивающие почти каждый, сколько-нибудь значительчый шаг в их личной и общественной жизни. Ф. высказал при этом и ряд глубоких и оригинальных обобщений философского характера. Все слушатели от почтенного учёного до желторотого студента-первокурсника старались не проронить ни слова. Минут через сорок после начала доклада Ф., говоря о «танце кенгуру», исполняемом перед отправлением на охоту с целью воздействия на реальных кенгуру для обеспечения удачи охотничьих замыслов, заявил, что он должен продемонстрировать этот танец. Как он выразился, это необходимо для того, чтобы понять «всю его завораживающую мистическую мощь». Хриплые гортанные звуки, нанизанные на стержень монотонной примитивной мелодии, раздавшиеся вслед за этим, исходили, казалось, откуда угодно, но не из уст почтенного джентльмена, стоявшего за кафедрой докладчика. Оставив своё место и то нагибаясь к самой земле, то прыгая на три-четыре фута вверх, то медленно переступая с ноги на ногу, то бешено кружась, Ф. продолжал своё пение, чередуя его по временам хриплым шёпотом или бурными выкриками и похожим на удары бича щёлканием языка. Оказавшись около стола президиума, Ф. схватил чей-то стоявший на полу цилиндр и, особенно бурно взвыв, метнул его в зал. Цилиндр, бешено вращаясь, взвился к потолку и через несколько секунд плавной дугой, как бумеранг, послушно вернулся к ногам Ф. К этому времени одежда явно начала раздражать нашего экстравагантного докладчика. Судорожными движениями он стал срывать её. Дикое пение, треск отлетающих пуговиц, звуки рвущейся материи смешались с частью испуганными, частью возмущенными криками публики. Дамы толпою хлынули к выходам. Мужчины повскакали со своих мест. Председатель тщетно пытался колокольчиком призвать к порядку докладчика и публику. Он явно не знал, что он может предпринять более действенное при столь необычайном для научного заседания чрезвычайном событии. К счастью для председателя, Ф. выручил его из затруднения: он быстрым движением выломал доску из кафедры и с дошедшим до предела человеческих возможностей ревом выскочил, кружась, как смерч, и бешено вращая вокруг себя доской, в дверь, ведущую в буфетную...
Председатель облегчённо вздохнул и, в изнеможении опустив колокольчик на стол, обнаружил достаточное присутствие духа, чтобы заявить: «Я полагаю, что выражу общее мнение всех присутствующих, если поблагодарю заочно профессора Ф., столь оригинальным образом закончившего свой доклад, за его крайне интересное сообщение, тем более ценное, что оно сопровождалось аутентичными вокальными и хореографическими демонстрациями, показавшими незаурядные таланты профессора Ф. и в этом отношении. Леди и джентльмены — заседание закрыто!»
После этого случая Ф. на несколько недель вышел из установившегося равновесия. Более чем естественно, однако, что и после возвращения его поведения в пределы нормы предложений выступить с новыми докладами ему больше не делалось.
Ф. полностью отдался литературной деятельности. В 1904 г. он выпустил в свет обширные мемуары — «Воскрешение древнего Адама. От мантии Оксфордского университета к родовому быту и обратно». Книга Ф. изобилует массою замечательных, абсолютно неизвестных дотоле подробностей из жизни австралийцев. Она крайне интересна вместе с тем и как своеобразный психологический документ. Сохраняя в большей части книги тон спокойного изложения и объективный склад ума, свойственный учёному, Ф. иногда явно проявляет непосредственность чувства, которую можно охарактеризовать как подлинное мироощущение дикаря, проникнутого глубокою убеждённостью в смысле и силе магических обрядов. Интересны те места, где оба эти ощущения как бы сливаются, образуя совершенно необычайный синтез. Приведем одно из таких мест:
«Мы полагаем, что существующие в так называемом образованном обществе отношения к магическим представлениям, как к одной из примитивнейших ступеней мировоззрения, совершенно незакономерны. Более того, мы склонны утверждать обратное.
Пассивный характер целого ряда религий является, по нашему мнению, безусловным шагом назад, по сравнению с магическими представлениями. Связанное с магическими представлениями стремление активно воздействовать на природу в интересах человека, в сущности, является тем, что характеризует и современный этап культуры. Мы считаем несомненным, что английскому народу, с его прагматизмом, с его постоянным стремлением овладеть силами природы, это мироощущение значительно ближе, чем та пассивная религия покорности высшим силам и ожидания милостивых даров от них, которая случайными капризами истории оказалась навязанной англичанам. Кто знает, как сложилась бы история Англии, да может быть и всего мира, если бы этой роковой исторической ошибки, исказившей дух бриттов, не произошло».
Последующие годы Ф. провел в полном душевном спокойствии. Выпущенные им за это время «Полный словарь» (1908) и «Грамматика» (1910) языка племени Полундра, с которым он сроднился за пятнадцать лет жизни, остаются до сих пор единственными в своем роде трудами. Беседы Ф., неизменно содержательные, полные юмора, теплоты и обнаруживающие терпимость и широту взглядов, единодушно вспоминают с самым нежным чувством все его коллеги, имевшие счастье быть его личными друзьями в эти годы. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, наш учёный продолжал сохранять бодрость, жизнерадостность и любовь к скромным жизненным удовольствиям, в частности, к дружеским обедам в достойном мужском обществе. Во время этих обедов он неукоснительно воздавал должное и живой застольной беседе, и гастрономической стороне дела, большим знатоком и тонким ценителем которой он являлся, и напиткам, подобающим джентльмену. После одного из таких обедов Ф. мирно задремал в кресле у камина. Через полчаса друзья, безуспешно попытавшиеся возвратить его к общему разговору, обнаружили, что он тихо отошёл в вечность. Смерть подкралась к нему неожиданно. Блаженная кроткая улыбка на лице патриарха науки свидетельствовала, что милостивая к нему судьба избавила его от страданий агонии.
(*) Ablativus absolutus — абсолютный отложительный падеж, распространенная грамматическая конструкция в латинском языке. — Примеч. ред.
(*) In corpore — в полном составе (лат.). — Примеч. ред.

Михаил Никанорович Филиппов родился в г. Тамбове в семье мелкого чиновника. Девятнадцатилетним юношей он поступил в канцелярию губернского правления, где и служил непрерывно в продолжение пятидесяти лет, понемногу повышаясь в чинах.
В 1859 г. он вышел в отставку в чине коллежского асессора. Всю свою долгую жизнь Ф. безвыездно провел в родном Тамбове.
Художественной литературой Ф. увлёкся ещё в молодых годах. Весь свой долгий век он с поразительной методичностью и упорством, отличавшими все его действия, посвящал литературной работе от двух до трех часов ежедневно; воскресенья же и праздники отдавались чтению литературных новинок, неизменно действовавших на восприимчивую натуру Ф. как стимул к собственному, более или менее оригинальному творчеству. К дальнейшей судьбе своих опусов Ф. относился с тем бескорыстным идеализмом, который — увы! — так редко встречается в нашем столетии; вследствие этого обстоятельства число литературных произведений Ф., увидевших свет, не превышает, к сожалению, 85 томов; остальная часть его художественного наследия, превышающая указанную цифру по крайней мере в 2,5 раза, до сих пор остаётся ненапечатанною.
Первым серьёзным опытом нашего труженика слова следует считать романтическую повесть «Прасковья — стрелецкая дочь», появившуюся в «Тамбовских губернских ведомостях» в 1820 г.
За нею последовали робкие попытки овладеть стихотворной формой: поэмы «Еруслан» и «Неонила», «Евгений Мологин», «Бронзовый пешеход», не помешавшие, однако, плодотворности также и прозаических занятий Ф. Результатом этих последних явились романы «Майорский сынок» и «Живые сердца». К этому же периоду относятся и первые опыты Ф. в области стихотворной драмы: «Щедрый герцог», «Мраморный пришлец», «Попойка во время холеры» и «Счастье от глупости».
Не смущаясь молчанием критики, Ф. упорно продолжает свою работу, согласно завету Пушкина «всех лучше оценить сумеешь ты свой труд». Отказываясь от каких-либо иных развлечений, он уделяет этой работе все вечера после службы. Ни женитьба, ни постепенный прирост семьи не меняют ничего в этом поистине железном расписании времени. Поэтому нас вряд ли сможет удивить тот факт, что с 1840 по 1880 г. Ф. было закончено не менее 52 романов. Назовем некоторые из них, чтобы убедиться, насколько живо, быстро и горячо отзывался Ф. на все сколько-нибудь значительные явления современной ему отечественной литературы: «Кто прав?», «Что думать?», «Шарабан», «Вторая любовь», «Потом», «Матери и внуки», «Пар», «Корвет Церера», «Обрезов», «Откос», «Необыкновенная география», «Обиженные и ущемлённые», «Подвиг и награда», «Умный человек», «Село Карамазово», «Матрац», поэмы: «Русские мужчины», «Кому в Тамбове умирать нехорошо» и многие другие.
Пользуясь после выхода в отставку неограниченным досугом и не отвлекаемый никакими другими интересами, Ф. в последние 45 лет своей жизни развил совершенно необычайную энергию, закончив, по свидетельству его правнуков, свыше 150 романов и несколько сот повестей и рассказов. Ни преклонный возраст, ни замкнутый образ жизни не мешали ему каждый раз, как только в его поле зрения попадало новое произведение литературы, откликаться на него, предлагая читателю — или, по крайней мере, своей семье — новый оригинальный вариант затронутой темы. От эпохи Карамзина до первых выступлений русских футуристов трудно было бы указать какое-нибудь литературное течение или какой-нибудь серьёзный вопрос, волновавший наше общество, не получившие своего отражения в творчестве Ф., которое сделалось настоящим зеркалом русской культурной жизни на протяжении целого столетия. Это блестяще подтверждается перечнем заглавий крупнейших произведений Ф., увидевших свет с 1880 по 1914 г: «Обычаи Разболтаева переулка», «Бессилие света», «Семена невежества», «Понедельник», «Отваловские медяки», «Глухой актер», «Три кузины», «Тетя Паша», «Старик Игдразиль», «Повесть о восьми утопленниках», «Лиловый плач», «Крупный черт», «Незнакомец», «Резеда и минус», «Туча в манто».
Свидетель и посильный участник золотого века русской литературы, лишь нескольких лет не дотянувший до столетнего юбилея своей деятельности, Ф. являет собою незабываемый образец самоотверженного труженика на этом благородном поприще. Невольник вдохновенья, он всю жизнь торопился обогащать родную литературу сокровищами своего духа, не успевая заботиться об ювелирной отделке романов и поэм, как бы чувствуя всегда, что беспощадная смерть вот-вот оборвет его творческий подвиг на полуслове. И когда мы представляем себе, как 116-летний старец, испуская последний вздох над попыткою дать собственный вариант на тему «Ананасы в шампанском», прошептал трогательную в своей простоте и скромности фразу — «и моя капля мёду есть в улье!..» — мы испытываем то самое волнение, которое заставляет обнажать голову перед наиболее возвышенными явлениями жизни.
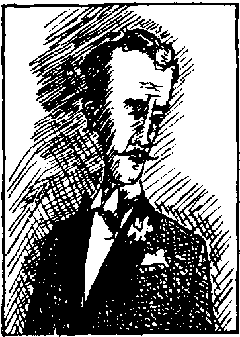
Хиальмар аф Хозенкант был специалистом в скромной, казалось бы на первый взгляд, области знаний, в которой он, однако, сумел занять выдающееся место, обеспечившее ему буквально мировую известность и признанный авторитет. Он положил начало новой научной дисциплине — систематическому сравнительному изучению истории одежды, рассматривая развитие последней в плане обобщений широких масштабов как орудия человека в борьбе с природой, как одну из форм идеологии, как мощный фактор общественного прогресса, как важнейшее явление прикладного искусства, в отличие от других элементов этой сферы, одинаково существенное для всех народов, от первобытных до самых передовых.
X. родился в Копенгагене в семье, давшей Дании несколько крупных государственных деятелей. Ещё на университетской скамье талантливый студент осознал свои научные интересы и всю дальнейшую жизнь посвятил любимому делу, возглавив в 1920 г. специально учреждённую для него кафедру — сравнительной истории одежды.
Уже первый печатный труд X. — его инаугуральная диссертация — обратил на себя серьёзное внимание специалистов. Это совершенно понятно, если мы примем во внимание жгучий интерес темы, выбранной молодым исследователем, смело пытавшимся разрешить одну из самых захватывающих и загадочных проблем истории материальной культуры и истории военного дела в частности: диссертация называлась «К вопросу о происхождении аксельбанта».
X. с исчерпывающей полнотой разобрал аргументацию учёных различных школ и направлений, пробовавших установить генезис столь распространенного милитарного украшения, рождение которого, однако, совершенно теряется во мраке прошедших столетий.
Он не согласился ни с одной из распространенных теорий: ни с предположением, что аксельбант связан со своеобразным отличительным знаком гёзов — с верёвкой, обмотанной вокруг плеча, — намёк на судьбу, приуготовленную для них беспощадными испанскими наемниками, ни с попыткой установить в аксельбанте развитие декоративного плечевого банта, наличие которого отмечается ещё в рыцарские времена, ни с гипотезой, будто «предком» аксельбанта являлся прикрёпленный к плечу шнур, предназначенный для облегчения прицела из тяжёлого мушкета, ни, наконец, с догадкой о том, что предпосылкой образования аксельбанта можно считать пришитый к плечу форменного кафтана шнурок, к которому прикреплялся карандаш — приспособление, позволявшее адъютантам записывать на всём скаку приказания своих начальников.
X. отважно выдвинул свой блестящий тезис о происхождении аксельбанта от обычая швейцарских горцев носить на плече связку веревок, как это до сих пор практикуется альпинистами.
По мнению нашего автора, это оригинальное украшение было в XVI—XVII вв. занесено во Францию швейцарцами, которые в большом числе нанимались в королевские войска, а также поступали на службу к знатным вельможам в качестве вооружённых телохранителей, а ещё чаще — ливрейных лакеев и швейцаров; последние (т. е. и ливрейные лакеи и швейцары) действительно постоянно носили аксельбанты, указывавшие на личную приближённость к хозяину.
Вскоре затем этот знак был заимствован всеми европейскими армиями для обозначения офицеров королевской свиты, адъютантов генералов, штабных офицеров.
X. подтверждал свои выводы ссылками на обширные изобразительные материалы XVII в. и заканчивал исследование скромным выражением надежды, что он, по мере сил, помог разрешению одной из величайших загадок науки.
Не приходится удивляться получению X. за эту работу степени магистра истории.
В 1916 г. X. выпускает в свет капитальный труд «Одежда как факт и фактор прогресса», в предисловии к которому дается формулировка научных убеждений автора.
«Одежда как бы аккумулирует культурные достижения общества — развитие его техники, высоту санитарных требований, расцвет искусств, уровень социальной морали.
Изучение прошлых достижений гардероба, как в высших классах, так и в народе, и (что не менее важно!) плодотворная разработка его новых форм составляют важнейшую научную дисциплину, одинаково необходимую для историков, государственных деятелей, художников, педагогов, полководцев, врачей, лидеров профессиональных организаций, наконец, просто для всех, стремящихся к повышению своего интеллектуального уровня...»
Впрочем, роль X. как историка достаточно хорошо известна, и мы ограничимся лишь упоминанием из множества его работ только наиболее монументальных.
В 1919 г. X. издает исследование «Профессия и одежда — опыт изучения одного из разделов общественной психологии».
В 1930 г. он печатает небольшую изящную искусствоведческую работу «Пуговица как необходимость и как декоративная тема».
В 1936 г. выходит в свет трёхтомное издание «Взаимодействие гражданской одежды и военной формы в истории европейской цивилизации». Наконец, в 1939 г появилось двухтомное исследование X. «Борьба униформы с этнографией».
Значительно менее оценена до сих пор роль X. как теоретика и практика — реформатора и создателя — новых форм одежды, почему мы и считаем себя обязанными подробнее остановиться на этом разделе его деятельности.
X. является автором (он разрабатывал лично все детали и делал собственноручные рисунки) множества проектов обмундирования самых различных категорий служащих, военнослужащих, учащихся, членов профессиональных корпораций и т. п. Им были составлены фасоны униформ для нескольких частных школ в Дании и Эйре, для работников муниципалитетов ряда городов, для служащих «Всемирного треста гостиниц», для военного и морского духовенства России, для работников компании «Французское мореплавание», для дипломатического корпуса и служащих судебного ведомства республики Карджакапты, для папских войск (модернизация и соответствующая модификация бессмертного труда Микельанджело) и т. д. По его проектам было создано и через его консультацию прошло бесчисленное множество костюмов для театральных постановок, маскарадов, праздничных церемоний.
И вот с грустью приходится констатировать тот парадоксальный факт, что из этой массы талантливых предложений, всегда логичных, основанных на глубокой эрудиции, обнаруживающих тонкий артистический вкус, отличающихся свежестью инициативы и в то же время исключительным тактом, почти ничего не оказалось реализованным. Чем это объяснить? Здесь, разумеется, действовали разные причины: и смелость нашего реформатора, пугавшая многих, и военные и социальные испытания, столь частые в нашем столетии, и фатальное «невезенье» X., и, очевидно, его практическая неприспособленность.
Тем более необходимо хотя бы на немногих примерах показать прелесть и рациональность его проектов, подобно тому как мы пытались кратким разбором первой работы X. обрисовать силу и глубину его научного мышления.

На табл. I (под № 1 и 2) мы видим изображения судей республики Карджакапты. Первый рисунок принадлежит к серии форм, выполненных X. по заказу карджакаптских властей, указывавших на желательность внести в форменную одежду «традиции европейского правосудия, чтобы преступник видел в судье воплощение неподкупности, величие юстиции, неизбежность возмездия, нечто чуждое привычным представлениям окружающей жизни».
Но едва X. выполнил этот заказ (создав проект, вполне отвечающий поставленным ему задачам), как в Карджакапте начались волнения, закончившиеся избранием в пожизненные президенты знаменитого Цхонга. (См. соответствующую биографию в настоящем выпуске.) Последний через датского посла, родственника X., обратился к автору проекта новых форм карджакаптских юристов с благожелательным письмом.
«Мне хотелось бы, глубокоуважаемый г-н Хозенкант, чтобы Вы несколько изменили образцы одежды представителей нашего правосудия. Моё главное пожелание заключается в том, чтобы виновный (а чаще бывает, вернее сказать, заблуждающийся) гражданин нашей страны видел в судье человека, самый облик которого обещает участие и помощь в беде, поддерживает веру в радость жизни, внушает надежду на будущее, укрепляет веру в милосердие и гуманность. Если вид судьи и должен внушать представление величия и неподкупности, то только в том смысле, в котором величава и неподкупна природа. Чистота судьи должна быть подобна чистоте цветка...»
Мы видим на рис. 2, с каким вдохновением, блеском и трогательной простотой X. разрешил задачу, поставленную перед ним президентом.
К сожалению, X., а за ним и Цхонг умерли раньше, чем этот прекрасный проект был реализован, а после их смерти дело переобмундирования судей Карджакапты было предано забвению.
Исключительный интерес представляют собой формы одежды для служащих муниципалитетов, разработке которых X. отдал несколько лет.
Рис. 3 на табл. 1 изображает проект парадного одеяния заведующего отделом записи рождений, браков и смерти лиссабонского муниципалитета. Этот чиновник мэрии облёкся в супервест голубого бархата, украшенный вышивкой, полной глубокого символического смысла: воркующие, целующиеся голубки и соединённые обручальные кольца подразумевают счастливых супругов; молодые деревца символизируют рождение новых счастливых людей; могила, осеняемая свежими кронами, выразительно напоминает о неумолимом неизбежном конце жизни... Можно сказать, что только немногие ритуальные предметы масонских облачений отличались таким убедительным символизмом. Понятно, как подобный пышный и многозначительный, хотя в сущности очень несложный и легко надевающийся наряд (надеть супервест не труднее, чем джемпер) должен был радовать или утешать всех, пришедших в мэрию.
Рис. 4 на той же таблице заставляет нас вспомнить слова X. в одном из его трудов:
«Форменная одежда дисциплинирует человека, возлагает на него ответственность за всех, кто имеет честь её носить, подчёркивает степень достигнутых гражданином заслуг, свидетельствует об их признании обществом, заставляет ещё больше уважать выбранный род деятельности и тем самым самого себя. Форменная одежда, как правило, красива и часто свободна от той сухости цвета и покроя, которая, увы, преобладает в современном штатском платье. А какое море чудесных возможностей открывается перед тем, кому поручено сконструировать новую форму: как много ему дадут памятники истории, особенности цеховой одежды, декоративность военных мундиров, традиции народной вышивки и орнаментики, наконец, вдохновенное воображение!..»
И действительно, вот какую сочную и изящную форму предложил X. для должности копенгагенского городского собаколова!
Эрудированность и неотразимая внутренняя логика характеризуют проект X. о введении формы для русского военного и морского духовенства, представленный на утверждение зимой 1916 г. (табл. 2).
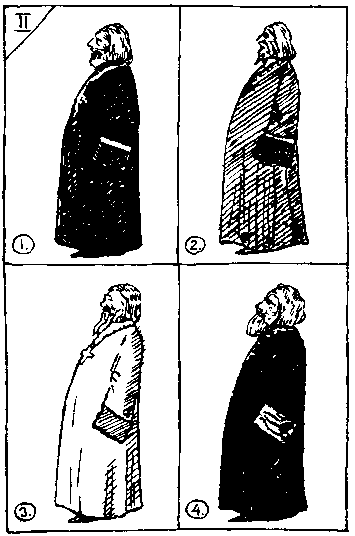
Разберём подробнее это интереснейшее предложение.
Как известно, в России после 1906 г. было осуществлено переобмундирование армии. При этом учитывались и опыт войны, и уроки борьбы с революционным движением, и необходимость принять меры, способствующие привлечению молодёжи в военные училища.
Старые, неуклюжие, мрачные мундиры, лишённые даже пуговиц, введённые военным министром Ванновским в 80-х гг. XIX в., похожие на форму кондукторов железных дорог, были отменены. Новая форма подразделялась в основном на походную, с одной стороны, и обыкновенную и парадную — с другой.
Печальные итоги сражений 1904—1905 гг. убедили в том, что в современном бою ношение тёмно-зелёных (почти чёрных) мундиров и летних белых гимнастёрок приводит к большим потерям. Поэтому походная форма войск была сведена к защитному цвету (хаки). В основу же обыкновенной и парадной формы армии были положены типы мундиров и головных уборов, связанные со славным периодом русской военной истории 1812—1815 гг. (разумеется, с различного рода модификацией).
Мундиры гвардейской пехоты украсились алыми, жёлтыми, малиновыми лацканами (нагрудниками). Лацканы вводились и в армейской пехоте.
Кавалерия, в боевой обстановке сохранявшая единство конницы драгунского и казачьего типа, в мирное время снова делилась на драгунские, казачьи, гусарские и уланские полки. Даже числившиеся теперь драгунами бывшие кирасиры получили особую форму, напоминавшую об их былом великолепии. Вновь зазвенели шпорами гусары в голубых, зелёных, синих и лиловых венгерках, расшитых золотыми и серебряными шнурами, появились уланы в синих мундирах с разноцветными лацканами.
Эта декоративная форма должна была по идее её авторов воспитывать в солдатах кастовое сознание, психологию, противопоставлявшую их народу. А образованную молодёжь этот блеск должен был прельстить праздничностью и романтизмом военной службы.
«Солдат должен смотреть женихом, красавцем, картинкой, дабы встречные военные любовались, а обыватели проникались почтением и уважением», — гласил один из приказов по гвардии.
Благодаря тому обстоятельству, что X. имел родственников, весьма близких королевской семье, а датский двор, как известно, был тесно связан с российским царствовавшим домом, наш учёный в 1914 г. получил приглашение принять участие в этих реформах. Ему поручалось, как упоминалось выше, разработать проект одежды для военного и морского духовенства.
Таким образом, перед X. стояла сложная задача: сберечь традиционный скромный покрой одежды священника (т. е. рясу), сохранить достойный привычный цвет этой одежды и в то же время добиться того, чтобы духовные пастыри армии и флота обладали отличиями платья, позволяющими быстро заметить их принадлежность к тому или иному полку или экипажу, чтобы члены их паствы могли моментально узнавать своего нравственного наставника.
И, как нам представляется, X. блестяще разрешил это труднейшее задание.
Согласно проекту X., священник должен был носить рясу цвета мундира своего полка, что, кстати сказать, как правило, не противоречило традиционной расцветке одежды духовенства.
Правда, новым цветом отличалась прежде всего походная ряса — цвета хаки, необходимого, однако, для деятельности в условиях передовых позиций. Зато парадная и обыкновенная ряса у священников пехотных, стрелковых и драгунских полков, по предложению X., должна была быть сине-зелёной (т. н. цвета морской волны или бутылочного); у священников казацких и уланских полков — синей, у священников гусарских полков — зелёной, лиловой, голубой; у моряков — черной (тем более что во флоте духовенство принадлежало к монашеству).
Отвороты рукавов обшивались материей (сукном, или шёлком, или бархатом) цвета «приборного сукна полка», т. е. цвета отделочного сукна, которым обшивались воротники мундиров, околыши фуражек, окантовывались погоны.
Так, священникам первых полков дивизий полагался алый отворот рукава, вторых — сине-голубой, третьих — белый, четвёртых — сине-зелёный, в цвет мундира. Священники стрелковых полков имели малиновый отворот, уланских — алый, голубой, белый, жёлтый, драгунских — розовый, малиновый, голубой и т. д.
Как известно, в русской армии той поры насчитывалось несколько особых, неповторяемых полковых форм. X. вполне учёл это обстоятельство: скажем, Александрийский гусарский полк был единственным гусарским полком, обладавшим чёрным доломаном; в соответствии с этим священник Александрийских гусар носил чёрную рясу с алым отворотом рукава и белым кантом по его краю. Драгунский Военного ордена полк был единственным драгунским полком, имевшим чёрный мундир; его священник носил чёрную рясу с белым отворотом, по краю которого шла оранжевая выпушка.
Таким образом, X. ввел третий декоративный элемент в предлагаемую им одежду — цветную выпушку (кант по краю рукава), что позволило ему добиться безупречно чёткой системы, соответствовавшей логике расцветки разнообразных мундиров русской армии.
К проекту было приложено свыше 250 рисунков, из которых мы воспроизводим лишь четыре:
1) Священник лейб-гвардии Преображенского полка.
2) Священник 1-го Сумского гусарского полка.
3) Священник лейб-гвардии Кирасирского (Царскосельского) полка.
4) Священник 2-го лейб-уланского Курляндского полка.
Добавим, что оппозиция церковных кругов помешала реализации проекта X.
Из бесчисленного множества работ X. мы считаем необходимым привести ещё два эскиза форм, свидетельствующие о замечательном чувстве стиля, свойственном покойному учёному и художнику. На табл. 3 под № 1 мы видим проект костюма дворника королевского дворца в Копенгагене. Это, действительно, образ, напоминающий персонажи Андерсена, воплощающий в себе всю поэзию старого города, которой наполнены страницы «Калош счастья», но обладающий теми трезвыми современными практическими атрибутами (бляха, фартук, веник), которые обеспечивают эффективное несение им служебных обязанностей в условиях нашей цивилизации.
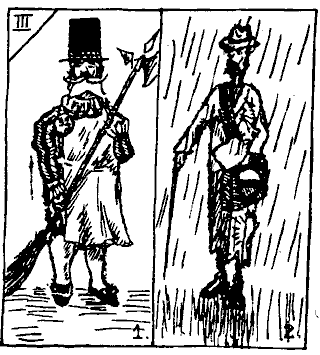
Второй рисунок изображает проект формы «городского нищего 2-го ранга», имеющего право просить милостыню «у подъездов всех общественных зданий города». На его служебный разряд указывают две заплаты и наличие черной кожаной сумы для сбора милостыни, украшенной гербом города.
Нищие 3-го ранга, согласно проекту X., должны были иметь три заплаты и гранитолевую суму без герба; они не должны были нищенствовать перед важнейшими общественными зданиями.
Нищие 1-го ранга имели одну заплату, а сума, полагающаяся им, шилась из коричневой кожи, украшалась гербом и носилась на белом плечевом ремне; им разрешалось просить милостыню даже в вестибюлях общественных зданий.
Как видим, и здесь наш автор проекта беспощадно логичен и верен своей основной идее упорядочения жизни посредством внедрения униформы.
Последние два года жизни X. прошли под знаком перелома, быть может, слишком резкого для того, чтобы учёный продолжал казаться большинству современников вполне здоровым человеком. Он много писал, но его новые произведения не опубликовывались. Он бурно проектировал, но мы ничего не знаем о его поздних работах.
После смерти X. друзья-душеприказчики не нашли возможным предать гласности его творчество последних лет...
Правда, ими была выпущена биография X. под названием «Памяти учёного и артиста», на страницах которой деятельность заключительного периода жизни нашего исследователя освещена сугубо фрагментарно. Однако по ряду намёков можно догадаться, что интересы X. в это время развивались несколько маниакально. Его мечта облечь всё человечество в форменную одежду вряд ли может рассматриваться как целесообразное практическое предложение. Ещё меньшей убедительностью отличается проект создания формы для гениев, предусматривающий множество деталей, долженствующих выявить в наглядном виде направление творчества данного гения. К подобным мыслям явно эксцентрического толка относится и самооценка X. как «действительного синтетического гения 1-го класса», нашедшая выражение в создании автопортрета, на котором X. изобразил себя в более нежели странной одежде: в розовом сюртуке с орденом белого Слона, с золотым венком на голове и на высоких котурнах. Униформа для гениев!
Казалось бы, что гений — это именно та категория, которая противоположна всякой норме, а ведь ради подчинения индивидуума норме и создавались различного рода униформы! И будто бы гений нуждается в присвоении ему высшего знака различия? Будто бы Эйнштейну, или Павлову, или Франсу, или Бизе требовались эмблемы, что-нибудь вроде часов, гиппократовой чаши, гусиного пера и лиры?!
Рассказывают, что X. всё более властно овладевала идея создания одежды нового рода, характеризующейся тем, что материи отводилось лишь минимальное место (поскольку её защита необходима для функционально-рабочих целей), но давался неограниченный простор целомудренной наготе, завещанной нам вечно прекрасным античным миром.
Если это направление поисков X., быть может, предугадывало будущее человечества, то что сказать по поводу намерения покойного исследователя и художника заменить одежду... татуировкой, опять-таки подчинённой чёткой форменной регламентации?! Впрочем, повторяем, мы не имеем оснований выносить решительное суждение по поводу творческих идей X. в последние годы его жизни, так как в нашем распоряжении нет первоисточников, а опираться только на отрывочные сообщения его друзей слишком рискованно по отношению к деятельности такого законченного учёного, мыслителя и художника, каким был Хиальмар аф Хозенкант.
(*) X., естественно, не касается на страницах своей диссертации вопроса об иммиграции швейцарцев во Францию в XVIII столетии: в эту эпоху аксельбант уже отчётливо сформировался, хотя и не завершил своего развития, закончившегося лишь в следующем веке.
(*) Об этом свидетельствует живучесть термина «швейцар», явно изменившего семантику.
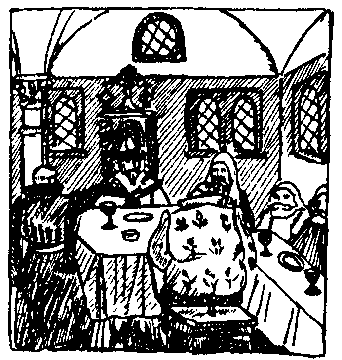
Осипко Давыдов сын Хрипунов родился 3 февраля 1550 г. в стольном граде Москве.
В ночь рождения его мать Секлетея вышла из избы на двор (источники дружно молчат о цели её выхода, и в исторической литературе есть несколько мнений об этом).
Подняв глаза к небу, она увидела знамение: огненный хвост в виде помела разметал освещённые облака и одно из них приняло форму собачьей головы, оскалившейся на Секлетею. Перепуганная женщина как была, так и опрокинулась на спину и с криками: «Ой, смерть моя пришла!» — родила сына.
Когда была основана опричнина, Осипке Хрипунову было 14 лет. Увидав опричную эмблему, Секлетея вспомнила своё видение и рассказала об этом соседям. Всей улицей решили немедля вести Осипка к царю, рассказать ему о знамении и просить зачислить Осипка в опричное войско.
Царь, услышав от родителей Осипка рассказ о его рождении, распорядился его принять в опричнину. На первых порах он продвигался по службе слабо. В знаменитом списке опричников, недавно опубликованном, мы видим его имя в разряде «Ниже всех статей» с окладом «3 рубли на год». Слава его пришла неожиданно.
На большом царском пиру в 1574 г. боярина князя Суглинского усадили далеко от царя, в конце стола. Не сказав сначала ни слова поперек, боярин изрядно выпил мальвазии и других хмельных напитков, после чего в нем неожиданно взыграло припрятанное было местническое чувство. Ударив кулаком по блюду с жареным лебедем и обратив на себя всеобщее внимание, князь Суглинский возопил, что не желает сидеть ниже таких-то и таких-то, привел наизусть родословные всех сидевших выше его и возвел хулу на их отцов и матерей. Особо поносными словами он очернил мать князя Юрия Ростовского меньшого, утверждая, что сам имел честь лишить её чести ещё до того, как она вышла замуж за отца князя Юрия, и что сидеть ниже сына такой бесчестной матери он не желает.
Услышав это, царь, бывший в этот день в весёлом настроении, сказал:
— Ну что ж, князь Иван, твоя правда, иди садись возле меня, — и указал на свободное место справа от себя.
Счастливый боярин, подобрав полы, быстро перебежал в голову стола и торжественно, с маху воссел на почётное место. Однако тут же он вскочил со страшным воплем. Из скамьи торчала стальная игла.
— Что, князь, — сказал царь с кроткой улыбкой, когда умолк за столом хохот, — выходит, не в месте дело. Недолго ты усидел. Поди-ка сядь, где сидел, да помалкивай, не то я тебя ещё и не так усажу!
Вдруг на всю палату раздался звонкий молодой голос:
— Батюшка царь, Иван Васильевич, вели слово молвить!
Это крикнул Осипко сын Хрипунов, стоявший у нижнего конца стола.
— Ну, молви, — сказал царь.
— Позволь мне, государь, на то место всесть. Может, там, где боярину по царскому указу сидети невместно, верному твоему опричнику в самый раз будет?!
— Садись, — сказал царь, и все замерли. Бодрым шагом прошёл Осипко к пустому месту, перебрался за скамью и, перекрестившись, с размаху сел... Звучно ударился он об лавку... кто-то громко охнул... Князь Суглинский подскочил на своем дальнем месте... А Осипко, даже ничуть не поморщившись, схватил чашу и сказал:
— Дозволь, великий государь, сидя на сей игле, не вставая, выпить эту чашу за долгие твои лета, доброе здравие и за победу над врагами чужеземными и внутренними.
— Пей, верный мой холоп Осипко Хрипунов, — отвечал царь. — А за геройство твоё, да за то, что посрамил боярскую спесь, будет тебе от меня таковое жалованье: перво-наперво дарю тебе парчовые штаны со своего царского плеча. Да, кроме того, жалую тебя «вичем», чтобы прозывался ты отныне Осип Давыдович сын Хрипунов. А поверх того дозволяю от сего дня тебе и всему роду твоему за царским столом не вставая, а прямо сидючи за наше царское здравие чашу выпивати.
Все гости зашумели одобрительно, а Осип Давыдович расплакался от великого такого счастья. Так и сидел он на игле до конца пира.
С тех пор он и потомки его сидели не вставая на царских пирах.
Как установил основоположник сравнительного литературоведения проф. Киселевский, о подвиге Осипка Хрипунова было сложено несколько былин и народных песен, сюжет которых перекочевал в мировую литературу и нашёл своё отражение в известной книге М. Твена «Принц и нищий», где право сидеть на королевских приемах завоевал герой книги — дворянин Гендон.
Нет необходимости говорить, что с того достославного часа карьера Осипка Хрипунова была обеспечена.
Он прожил долгую жизнь и сделал немало великих дел. Его слава несколько померкла при благочестивом царе Федоре, но вновь возродилась при Борисе Годунове.
Царь Борис относился к нему дружелюбно, хотя в своё время и досадовал на то, что на том пиру Осипко обошёл его и раньше успел сесть на иглу, хотя та же мысль почти одновременно пришла в голову и ему. Наблюдательный царь Иван заметил тогда досаду Годунова и на другой день сказал ему:
— Не тужи, Борис, что опоздал вчера на иглу сесть. Каждый служит тем, чем может. Тебе для исправления нашей царской службы и головы столь довольно, что незачем на сие другие свои достоинства употреблять...
Самозванец, подвергший осмеянию и поруганию многое из священной московской старины, решил подшутить и над старым Осилком Давидовичем.
Однажды на пиру он пригласил его сесть на знаменитое место, куда снова была воткнута стальная игла. Повторив свой геройский подвиг, старый слуга царя Ивана Васильевича сказал резким голосом:
— Не дурно бы и тебе, государь, в царское своё место спицу приспособить, да и на неё и всаживаться, а то не ровен час... да свалишься с царского места...
Лже-Димитрий, будучи нраву легкомысленного и отчасти весёлого, не рассердился на эту дерзость и сказал:
— Хорош твой совет, Осипко, да боюсь, в случае чего и спица не поможет.
Как известно, эти слова оказались пророческими. По мнению известного исследователя политических движений того времени И. Смерднова, этим ответом самозванец сильно подорвал свой авторитет, чем способствовал скорому успеху заговора Шуйских.
Осип Давидович Хрипунов погиб геройской смертью в 1612 г. в знаменитый августовский день, когда под Москвой было разгромлено войско гетмана Ходасевича, явившегося спасать поляков, осаждённых в Кремле. Лежавший на земле раненый польский жолнёр ударил копьём нашего старого воина. Направленное снизу вверх копье вонзилось Осипу Давидовичу Хрипунову именно туда, куда уже дважды вонзалась игла. Вскоре отважный старый опричник умер от потери крови.
Потомки его — князья Хрипуновы-Иголкины играли заметную роль в дальнейшей придворной истории.

Всего только несколько лет отделяют нас от печального дня смерти выдающегося мыслителя, талантливого писателя, проникновенного педагога и разностороннего общественного деятеля Иоанна Менелика Конфуция Цхонга, первого и единственного пожизненного президента республики Карджакапта, но уже появились целые библиотеки воспоминаний, монографий, исследований и даже художественных произведений, посвящённых описанию его жизни. Нелёгкая задача — выбрать из этого океана чувств, мыслей и фактов важнейшее, или. во всяком случае, необходимейшее, чтобы в кратком очерке попытаться дать характеристику этого замечательного человека.
Цхонг родился в небогатой, но известной образованностью и хорошими традициями семье. Уже в детские годы он поражал всех необыкновенной вдумчивостью и серьёзностью; с какой-то печальной улыбкой смотрел ребёнок вокруг себя, точно уже различая несовершенство мира и в то же время радуясь богатству сил природы и неиссякающей энергии человечества.
Зная оригинальность взглядов покойного мыслителя, исключительный масштаб его культурных начинаний, глубину его влияния и на родную страну и на остальной мир, нам трудно представить себе молодость Ц., годы ученья и работы, когда он жил, как все другие. И не потому, что у нас мало данных, а просто величественный и простой облик этого человека плохо уживается с представлениями об ординарной жизни. По-видимому, до 1937 г., когда Ц. исполнилось 45 лет, главным условием формирования личности мыслителя стало уединение; он, так сказать, вызревал в тиши своего кабинета, размышляя о судьбах прошедшего и будущего, о путях развития своей родины и человечества, постепенно уяснял себе смысл бесконечного движения вперёд, воплощением которого являлись его художественные произведения, учёные изыскания и государственная деятельность. Уже в романе «Путь ощупью», вышедшем в 1928 г., в мыслях и словах учителя Скорбогаза мы находим множество зрелых суждений о воспитании; эти принципы впоследствии легли в основу реформ Ц. в области народного образования.
Ц. был выдающимся знатоком своей страны. В многочисленных учёных работах Ц. («Религиозные образы в карджакаптских народных вышивках», «Скульптурные памятники карджакаптской древности», «Национальные традиции карджакаптской храмовой архитектуры», «Триумфальные арки на реках Карджакапты» и т. п.) нашла своё выражение вся история его родного края: суровая древность, беспокойное настоящее, счастливое будущее. Ц. глубоко ценил карджакаптскую литературу, искусство, религию, а разносторонними сопоставлениями он доказал превосходное знание духовной и материальной культуры множества других народов, так или иначе влиявших на государственность и идейную жизнь Карджакапты. Он восхищался также и культурами, не оказывавшими влияния на историю его собственной страны, и не переставал горько жалеть об этом обстоятельстве.
«Каким огромным несчастьем для нашей страны, — говорил покойный мыслитель, — является фатальный разрыв во времени и пространстве с такой величайшей культурой, как культура инков... Ведь не будь этого разрыва, всё было бы иным...»
Фундамент философских взглядов Ц. образовывало убеждение о всеобщем родстве возвышенных и бескорыстных устремлений человеческой души к совершенству.
Далёкий от узких рамок догмы, он в каждой религии чувствовал постижение единого Бога, в каждом искусстве видел поиски единого, по существу, идеала, в каждой философской системе — служение единой истине. Однако наш учёный твёрдо и последовательно отрицал концепции, связанные с «угашением духовного начала», т. е. основанные на рационализме и материализме. Он вполне признавал «внешнюю», с его точки зрения, силу аргументации во многих сочинениях такого рода, часто отмечал выдающийся ум своих противников, но эти направления в целом представлялись ему, как он писал, «не умными, хотя я и не решусь назвать их «неумными», написав это в одно слово. Материализм прав только в одном случае: когда он критикует рационализм, наивно не замечая, что и сам, по сути дела, не в силах вырваться из ограниченной сферы умозаключения, всецело обусловленных скудными ресурсами того же разума, этого «третьего сословия человеческого духа».
Подобные высказывания объясняют нам, почему Ц. считал протестантское исповедание «двоюродным братом рационализма и материализма» и «первым шагом к атеизму». Не приходится удивляться, что он отказывал лютеранству в покровительстве, которым пользовались представители всех прочих религий, хотя и отменил старый закон, полностью запрещавший строить в пределах Карджакапты кирхи и проводить в них службы.
Европейским политикам, да и широкой общественности, казался странным огромный успех плебисцита 1944 г., который выдвинул Ц. на пост президента Карджакаптской республики. Многим представлялось каким-то необъяснимым феноменом, что в стране, пережившей тысячелетнее деспотическое господство теократии, затем оказавшейся под столетней властью военно-феодальной диктатуры и под длившейся десятилетиями тяжёлой зависимостью полуколониального типа от европейского и американского капитализма, после нескольких лет национальной революции и гражданских неурядиц вдруг у власти оказался мыслитель, человек, по всему своему облику похожий на идеального руководителя государства, мечтавшегося некогда Платону.
Однако не надо забывать о труде многих поколений духовных деятелей Карджакапты, постепенно подготовивших своих сограждан к торжеству либерализма и к восприятию учений о самосовершенствовании. Их успешная деятельность давно встречала сочувствие у многих прогрессивных мыслителей передовых стран. Напомним, что ещё Лев Толстой приветствовал книгу детских философских стихов Ц., вышедшую в 1910 г., «Ребёнок в храме». А личная дружба Ц. с Роменом Ролланом, Махатмой Ганди и с великим Рамадасом и их глубокий интерес к общественной деятельности нашего реформатора общеизвестны. Кроме того, ясная конструктивная политическая программа Ц. не могла не привлекать симпатий широких масс населения Карджакапты, утомлённых внутренними смутами, подъёмами и спадами хозяйства, увлечениями то западными порядками, то национальной древностью. Все это достаточно объясняет нам влиятельность Ц. и авторитет созданной им организации «Конгресс истинных сынов Карджакапты». Во всяком случае, при своем избрании президентом Ц. получил абсолютное большинство голосов: 8 миллионов против 137 человек — результат, едва ли имеющий прецедент в мировой истории. Через год после избрания полномочия Ц. были признаны пожизненными, а через два года ему был присвоен титул «бендзы Кололацы», что значит «Любимый дедушка», и народ Карджакапты решил назвать себя «Працы», что можно перевести словами «Вечно благодарные внуки». До какой степени (независимо от последующего разворота событий) жители республики сохранили преданность идеалам своего первого пожизненного президента доказывает то обстоятельство, что во время последних выборов в парламент партия «Конгресс сынов» добилась победы в значительной степени благодаря удачному избирательному лозунгу: «При нас всё будет, как при дедушке!»

Сделавшись верховным правителем страны, Ц. остался таким же простым, приветливым, добрым и доступным человеком, каким был до сих пор. На улицах деревень, на площадях городов, на базарах и в театрах, на рисовых полях и в зарослях джунглей можно было видеть знакомую фигуру президента в скромной, лёгкой и изящной одежде, мягких глубоких тонов, украшенного только почётной президентской гирляндой. Он запросто беседовал со стариками и детьми, для всех находя ласковое слово. Он постоянно ходил босиком, гордясь закалённостью своих ног. Зато голова президента почти всегда была покрыта своеобразным убором, снабжённым подбитыми мехом наушниками: Ц. страдал головными болями и должен был держать голову в тепле. На огромном большинстве своих живописных портретов и статуй он изображён босым и в этом своем оригинальном шлеме.
В своей реформаторской деятельности Ц. оказался логичным, настойчивым и энергичным, проявив размах, вызвавший удивление в старом и новом свете. Он обнаружил даже известную суровость, впрочем, вполне оправданную обстоятельствами: «Назревшие преобразования потребуют времени и, несомненно, вызовут противодействие тех, кто не понимает их значения, — сказал президент в речи, требовавшей пожизненных полномочий. — Вот почему я прошу предоставить мне достаточные сроки, после окончания которых, клянусь, вы сами себя не узнаете!»
Существо реформы Ц. составляло культурное перевоспитание на основе всестороннего совершенствования. Естественно, в первую очередь было обращено внимание на развитие просветительных учреждений — музеев, библиотек, планетариев, театров, концертных залов и, главное, церквей всех религий (кроме протестантской). Прекрасные архитектурные храмовые сооружения соперничали с великолепными светскими зданиями, над которыми господствовал грандиозный президентский дворец. Во всех садах и парках страны воздвигались памятники великим деятелям прошлого, чтобы юношество могло учиться на высоких примерах лучших жизней. Задний фасад президентского дворца выходил в громадный парк, аллеи и лужайки которого были украшены статуями всех славных сынов человечества, начиная с Адама и кончая великим Рамадасом. Здесь были Аменхотеп и Хаммураби, Аристотель и Марк-Аврелий, Леонардо да Винчи и Данте, Гёте и Лермонтов, Толстой и Ницше, Александр Македонский и Александр Невский, Рихард Вагнер и Мотя Блантер, Конфуций и Сен-Симон и кого только не было... Каждую весну, подобно древним перипатетикам, Ц., окружённый членами учёной комиссии и студентами, бродил по аллеям и, останавливаясь перед той или иной статуей, экзаменовал юношей по важнейшей дисциплине — истории культуры.
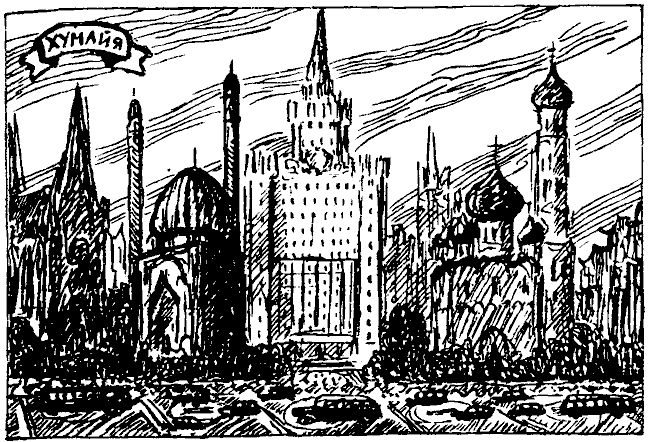 |
Главная площадь города Хумайи перед президентским дворцом была вымощена цветными камнями и представляла собою как бы грандиозный ковёр, на котором, подобно драгоценным игрушкам, возвышались храмы, церкви, соборы и, наконец, дворец главы республики.
Нечего удивляться тому, что Хумайя стала гордостью своей страны и приманкой для туристов всего мира, пока некоторые новые правила, показавшиеся многим иноземцам стеснительными (как это будет рассказано ниже) , не сбавили у них охоты посещать эту гостеприимную республику.
Реформы народного образования, проведённые Ц., представляли собой сложный комплекс мероприятий, охватывавших все стороны умственной жизни народа.
Ещё в начальных школах заботливые педагоги выявляли основные устремления и способности детей. Вся учебная и воспитательная работа имела своей целью всестороннее развитие личности.
Школьники начинали занятия с 9 ч утра. После первых трех уроков, с переменами по 5 мин, следовали большая перемена и завтрак, на которые давалось полчаса, чтобы приучить детей к стремительности и расторопности. Затем шли ещё три часа занятий и обед, на который отпускалось 7 мин (в тех же целях). После обеда учащиеся занимались гимнастикой и играми до 6 ч вечера. До 8 ч дети обязаны были на дому приготовлять уроки. С 8 до 10 ч они занимались спортом и пластикой по системе Айседоры Дункан. Ученики первых пяти классов ложились спать в 11 ч, а подростки, юноши и девушки — воспитанники старших классов — укладывались в 11 ч 30 мин. Такое расписание обеспечивало уплотнённость рабочего дня и давало возможность значительно расширить и углубить знания. Часы, которые удалось сэкономить на бюджете времени школьников, были отведены изучению искусства, мифологии, религии и философии, — одна из мер, существенно изменивших облик современного гражданина Карджакапты.
Ц. лично внимательно наблюдал за жизнью реформированнои им школы и при первой возможности стремился присутствовать на уроках.
Один из биографов сообщает нам любопытный рассказ о таком посещении главой государства приготовительного класса школы будущих юристов (будущие судьи должны были учиться в течение 21 года, переходя по окончании специальной школы в специальный колледж, затем в специальный институт и оттуда в юридическую академию).
«Приятно было видеть маститого деятеля, окруженного пытливыми лицами школьников, взиравших на своего высокого гостя горящими от восторга глазами.
Президент сам задавал детям вопросы, свидетельствующие о глубоком понимании натуры ребёнка, и с интересом вслушивался в стремительные ответы ребят, так как каждому из малышей хотелось отличиться и они, перебивая друг друга, старались блеснуть знаниями и сообразительностью.
«Если в нашей стране, дети, в прошлом году было 4711 памятников, а в этом году их сооружается ещё 500, то сколько их будет в будущем году?» — спросил президент.
«5211!» — раздался весёлый хор осчастливленных школьников.
«Ну, хорошо! Ну, молодцы!» — сказал президент и обратился к румяному крепышу, сидевшему на первой парте: — А скажи-ка мне, душенька, как ты думаешь, что имел в виду Гёте, создавая Эвфориона? Что вкладывал он, по твоему мнению, в этот образ?»
«Вечно беспокойное стремление человеческого духа к раскрытию тайн природы и жизни», — бодро ответил смышлёный мальчик.
«Так, прекрасно! А ты, голубчик, не скажешь ли мне, что Платон называет «эротическим знанием»? — ласково сказал президент соседнему вихрастому черномазому приготовишке.
«Начиная от одиночных прекрасных предметов, постоянно восходить вверх ради этого высшего прекрасного, поднимаясь как бы по ступенькам от одного прекрасного тела к двум, от двух — вообще ко всем прекрасным телам, а от прекрасных тел к прекрасному образу жизни, затем к прекрасным знаниям, и всё это для того, чтобы познать в конце концов, что такое прекрасное», — уверенно произнёс вихрастый крошка.
«Очень мило! Очень хорошо! И впредь веди себя хорошо!» — одобрительно заметил ему президент-философ.
Известный учёный Лагондра Прасхон подробно описывает успешную деятельность созданных Ц. постоянных семинаров по II части «Фауста», которые были организованы в каждом квартале столицы и воспитали целый ряд выдающихся мыслителей, поэтов, масонов и общественных деятелей.
Особое место в серии изданных президентом законов, долженствующих подавить хищническую природу человека, занимают те из них, которые запрещали по всей республике занятия охотой и потребление мясной пищи. Впервые в истории принципы вегетарианства были поддержаны авторитетом и силой государства. Для животных, которым теперь наконец человек перестал угрожать мучительной смертью, были организованы специальные заповедники, где они могли существовать соответственно собственным желаниям. Правда, многие из них, например домашние свиньи, тяжело переживали отсутствие давно ставшего привычным правильного ухода, но, конечно, подобные явления неизбежных первоначальных трудностей не остановили энергичного реформатора. Домашний скот, дающий молоко, птица, снабжающая яйцами, разумеется, оставались у хозяев: здесь имели место обоюдно выгодные отношения. Человек брал на себя заботу о бытовом обслуживании животных, что давало ему, в свою очередь, моральное право на обладание известной долей продуктов. Ведь курица всё равно не имела бы сил высиживать все снесённые ею яйца и воспитывать бесчисленных птенцов. Кормя её, обеспечивая ей уютный, тёплый кров, гарантируя ей безопасность от хищников, человек может воспользоваться несколькими десятками яиц, конечно, не препятствуя (а, наоборот, максимально его поощряя) выводу цыплят. Но об убийстве курицы для еды, ясное дело, не могло быть и речи. Все престарелые животные должны были пользоваться уходом хозяев до момента своей естественной смерти.
То гармоническое развитие личности, которому прежде всего учил Ц., неизбежно упиралось в необходимость развивать не только ум, но и тело. Вот почему все виды спорта испытывали в годы его правления такой пышный расцвет. Мало того: Ц. придавал огромное значение физической закалке сограждан. Сам он, с очаровательной астенчивостью, упрекал себя (чтобы не осуждать родителей) за «недостаточную закалку головы», заставлявшую его, как выше указывалось, не расставаться со знаменитой тёплой шапкой с наушниками. Исходя из этих соображений, Ц. издал закон, обязывавший всех здоровых людей с 3 до 65 лет ходить босиком. Исключения допускались (кроме больных) лишь для обладателей ступней вопиюще некрасивой формы.
Раньше всего реформа была проведена в армии. (Ей предшествовало заключение тесной дипломатической и военной дружбы с Абиссинской империей, армия которой имела многовековой опыт служения босиком.) Затем последовала отмена ношения обуви школьниками и студентами, потом служащими государственных учреждений и, наконец, остальными гражданами.
Ц. не остановился перед суровыми мерами по отношению к духовенству разных толков, препятствовавшему этим начинаниям президента вплоть до запрещения священникам и другим служителям культа появляться на улицах столицы даже в сандалиях. (Правда, правитель почти не обращал внимания на обувь лютеран. «Да простит меня Бог, — говорил президент, — но эти люди заблуждаются так глубоко духовно, что вряд ли им поможет забота о физическом здоровье».)
Не первый раз в истории встречаем мы примеры того, как, казалось бы, сравнительно малозначительные законы вдруг приводят к возмущению до сих пор покорного народа.
Подумаешь, важное дело — ходить ли босиком, или в ботинках! Разве не бесконечно более значительной была реформа школы, реконструкция парков и садов, сооружение статуй великим деятелям человечества, создание мостовых из цветных камней и т. д. и т. п.?
Нет! Упрямые карджакаптцы превратились во «внуков, не помнящих благодарности».
Недовольство охватывало самые разнообразные слои населения.
Рабочие говорили, что металлические стружки режут им ноги. Горняки жаловались на твёрдость угля и руд, будто бы калечащих их ступни. Крестьяне сравнительно спокойно держались летом, но роптали зимой. Буржуазия, преданная до глубины души жалкому подражательству европейским модам, тосковала о запрещённых изящных туфлях. Даже школьники и те хныкали по тому поводу, что у них зимой якобы мерзнут ноги, хотя правительство оборудовало все классные парты специальными железками для согревания ног путем трения.
Можно думать, что рост недовольства подогревался коварными интригами торговцев обувью и фабрикантов обуви.
Как бы то ни было, но внутреннее положение в Карджакапте осложнялось. Более того, начались и неприятности в области международных отношений. Новый посланник Великобритании отказался разуться при аудиенции у президента для вручения верительных грамот. Самое большее, чего добилось карджакаптское министерство иностранных дел, — это было согласие надменного дипломата надеть специально сделанные лайковые туфли телесного цвета, с отдельными футлярами для каждого пальца, по типу перчаток. В обширной нотной переписке по этому поводу мы находим следующие строки:
«Посланник правительства его величества не находит возможным для своего достоинства прибыть на приём к президенту иначе, чем в этой обуви, самая конструкция которой свидетельствует о максимальном благожелательстве Соединённого Королевства к обычаям республики Карджакапта».
Однако президент отказался принять английского посланника, «если он не подчинится законным элементарным культурным нормам нашей страны».
Эти трения привели к срыву переговоров о новом британском займе, необходимом, между прочим, для сооружения цветных мостовых в ряде провинциальных городов, для расширения заповедника одичавших свиней и для выпуска дорогостоящего издания — букваря «Основы философии в наборах букв».
Между тем на улицах столицы стали появляться всё более многочисленные демонстрации протеста. Люди разных профессий и положений несли плакаты с дерзкими лозунгами, требовавшими «свободы ношения обуви».
Дважды личной гвардии президента пришлось разгонять эти неуместные манифестации, причем верховный правитель, хорошо известный всему миру как последовательный пацифист, вынужден был применить — не оружие, нет! — пренеприятные по запаху газы, чтобы разогнать мятежные толпы.
В конце концов недовольство проникло в армию и даже в личную президентскую гвардию. Солдаты слепо требовали обуви, особенно после того, как во время одной из демонстраций её участники нарочно разбросали по улицам Хумайи множество гвоздей, тарантулов, колючек различных растений и нечистот.
Положение стало угрожающим. Совет министров просил президента пойти хотя бы на некоторые уступки. Однако все близко знавшие Ц. отдавали себе отчёт в безуспешности просьбы.
Напрасны были и представления и ходатайства парламента.
В январе 1949 г. Ц. издал прощальный манифест и сложил полномочия.
Настало общее смятение. Оппозиция сразу распалась и свернула свои, ещё недавно безмерные, требования. Но тщетно огромные босые толпы жителей столицы целыми ночами стояли перед балконом президентского дворца в надежде на примирение со своим избранником: их бывший верховный правитель шёл в это время пешком по направлению к своему имению. Он шёл походкой твёрдого в решениях человека, с кроткой улыбкой на устах.
Ц. не без гордости замечал, что его закалённые ноги шагают одинаково быстро и легко и по мозаике площадей столицы, и по асфальту шоссе, и по мягким травам и цветам полей, и по тропинкам густых лесов...
Какая нелепая ирония судьбы! Уж в конце пути Ц. почувствовал боль в левой пятке. Ничтожный осколок стекла был им извлечен тут же. Но на следующий день обозначилось воспаление, которое заставило нашего знаменитого современника проболеть две недели и, в конце концов, несмотря на все запоздалые усилия врачей, отняло у него жизнь. Дело объяснялось тем, что мыслитель был слишком уверен в закалённости своих ног. Он считал невероятным, чтобы такой пустяк мог грозить серьёзными, а тем более опасными для жизни осложнениями. Он припоминал множество гвоздей, заноз и других предметов, извлечённых им из ран в своё время.
Ц. скрывал и от близких, и от врачей, и, по-видимому, от самого себя усиливающуюся боль. Быть может, президент думал о тех простых людях, которые доверили ему заботу о своем благополучии и которые могли стать такими же жертвами злокачественных бактерий, раз законы страны лишали их ноги защиты обуви...
Можно думать, Ц., забывая о собственных страданиях, долго размышлял о том, где правда? Что даёт большую пользу и безопасность? Суровая закалка организма или тщательная защита усовершенствованными средствами цивилизации?
Когда недуг достиг такой силы, что стал очевиден всем окружавшим больного и лучшие врачи вступили в борьбу с опасностью, было уже поздно: явления сепсиса достигли непреодолимой силы.
«Всё-таки это только несчастный случай, — говорил больной, до последних минут сохранявший ясность мысли и твёрдость убеждений. — Направление моей политики было верным! Правда, необходимо усилить саннадзор. Надо расширить дело санитарного просвещения. Но возвращаться к тесным оковам обуви было бы опрометчиво и недостойно!»
Ц. скончался в своем имении «Сороконожка-босоножка», успев трижды ответить отказом на настойчивые предложения парламента вернуться к власти, согласившись лишь на самые незначительные уступки в последних законах.
Но для великих мужей нет слабостей!

Некоторым людям как бы свойственно обаяние таинственности. Их жизнь, хотя и проходит в течение известного периода на глазах у всех, оставляет в целом впечатление какой-то ненатуральности, вроде призрачного существования героев литературных произведений или персонажей кинофильмов, то ли вследствие исключительности их судьбы, то ли благодаря их особой душевной прелести, то ли под влиянием их прекрасной внешности, то ли в результате того, что научный интерес к их биографии появляется слишком поздно, когда многие необходимые звенья их деятельности уже потеряны.
Так окутана тайной, например, жизнь и смерть Александра Великого. Его легендарные походы кажутся куда более тёмными и поэтому, в известном смысле, более древними, чем хорошо нам известная и поэтому несколько прозаическая в своей гражданской благоустроенности жизнь, скажем, Перикла в классических Афинах V в.
Так обаяние тайны окружает до сих пор, по существу, хорошо нам известные обстоятельства жизни и смерти Людовика Баварского, и поступки безумного короля, недавние, нелепые, лишённые значительности, всё же представляются нам более загадочными и тем самым как бы более далёкими, чем важнейшие события, связанные с именами трезвых гениев, вроде Фридриха или Наполеона. И хотя об удивительной красоте Ч. писали и А. Франс и М. Пруст, хотя кисть Пшедомбского сохранила для нас два её изображения, хотя её имя упоминает в своих воспоминаниях князь Б. Бюлов, а в библиотеках можно видеть журналы и газеты с рецензиями на её выступления в «Федре» или «Пелеасе и Мелисанде», хотя живы многие из тех, кто лично знал эту очаровательную актрису, всё-таки, приступая к написанию её биографии, кажется, будто собираешься рассказать о жизни женщины, которую увидел в прекрасном сне, а не реальное бытие реального человека.
Вот как вспоминает М. Пруст о знакомстве с Ч.: «Когда я вошёл в этот почти пустой от мебели зал, единственными украшениями которого были необыкновенно мягкий ковёр, белые с жёлтым диваны, две картины Эльстира и — главное — огромные окна, выходившие в сад, в которые виднелась тёмная, будто влажная, зелень, когда я услышал незабываемый по музыкальности и странной трогательности голос хозяйки и увидел её стройную фигуру, сразу приведшую на память античный образ трепетного тростника, — я понял всю бесплодность попытки выразить своё впечатление от этого необыкновенного существа обычными словами. Быть может, это сумели бы сделать герцог Сен-Симон, с его почти математической точностью наблюдений, соединённой с народным простодушным реализмом, или Достоевский, с вдохновенной нервозностью провидца и артистичностью подлинного ценителя женщин».
В самом деле, даже год рождения Ч. в точности нам не известен, как неизвестны её происхождение, детство, отрочество, не говоря уже о том, что мы не уверены, умерла она или живёт и сейчас.
Единственное, что мы можем со всей точностью установить, — это появление в составе труппы Французской Комедии в 1900 г. молодой (вряд ли ей было больше 16 лет) артистки Элеоноры Перье, игравшей роли второстепенные, но уже отмечаемой критикой за превосходные внешние данные.
В 1902 г. состоялся дебют юной артистки в «Федре».
Как это бывает, к сожалению, слишком часто, злые языки приписывали это обстоятельство её близости к министру изящных искусств г-ну Симоннэ и директору театра г-ну де Ливров. Как бы то ни было, спектакль произвёл сильнейшее впечатление.
«Представьте себе Бернар, — писал в «Фигаро» критик Леви-Сантерр, — без того скрытого, но явно чувствуемого элемента сухости, сообщаемого технической уверенностью и многолетнею привычкою, представьте себе античную женщину, ещё обладающую неуверенностью молодости, а не мудрой уравновешенностью, которую обычно мы невольно сообщаем женщинам этой эпохи, — и вы поймете прелесть подлинной Федры, воскреснувшей на вчерашний вечер».
Неизменный успех сопровождал все выступления Э. Перье и в годы её службы в труппе Театра Французской Комедии и в последующее время, когда она в качестве знаменитой актрисы гастролировала на сценах крупнейших театров всех европейских столиц. Клеопатра Шекспира и Клеопатра Шоу, Нора и Орлёнок, Саломея и Нина Заречная — стоит ли перечислять блестящую галерею женских образов, созданную столь молодым и в то же время столь зрелым, мы сказали бы, могучим талантом! Только успех русского балета Дягилева мог соперничать с триумфом Э. Перье в первые годы нашего столетия.
Поэтому все ценители драматического искусства были глубоко потрясены, когда в 1907 г. артистка покинула сцену, выйдя замуж за престарелого графа Ченчи, давнего поклонника её дарования.
К сожалению, гениальное и прекрасное не только восхищает и привлекает. Всегда найдутся завистливые глаза, злобные подозрительные уши, недоброжелательные раздражённые языки. И нас не должно удивлять возникновение нелепых слухов, будто граф Ченчи предложил знаменитой актрисе свою руку по просьбе своего старинного друга, которого мы скромно назовём королем одной из соседних стран, для того, чтобы создать ей почётное положение в замкнутом аристократическом кругу и своим именем защитить её от чрезмерного любопытства и всевозможных толков.
Пишущий эти строки, ещё будучи молодым дипломатом, имел удовольствие пользоватьси дружеским расположением покойного графа и продолжал встречаться с ним до последних дней его жизни.
Каждое посещение великолепного особняка новобрачных убеждало в том, что граф, несмотря на свои 88 лет сохранивший облик истинного вельможи, наслаждается безоблачным семейным счастьем. В течение 1907 и 1908 гг. мы не раз имели честь встречать в доме графини, за обедом или за ужином, монарха, имя которого так упорно связывали с нею, и должны засвидетельствовать его неизменно рыцарское, полное глубокого уважения поклонение очаровательной хозяйке.
Нам больно упоминать о недостойных сплетнях, утверждавших в своё время, будто бы расположение графини Ч. увенчало успехом многолетние домогательства со стороны сэра Б. Захарова, миллиардера Гулля и талантливого живописца С. Пшедомбского. Мы глубоко убеждены, что здесь имело место лишь чувство неизбежного восхищения, от которого не был свободен никто из видевших её, в том числе и автор настоящих строк.
«Собаки лают — караван проходит мимо!» — следует сказать по этому поводу словами восточной поговорки.
В залах прекрасного особняка на улице Вожирар собиралось разнообразное по талантам общество. Здесь можно было встретить всех знаменитостей — художников, писателей, музыкантов, артистов, государственных деятелей, так же, как в осенние месяцы на вилле Ч. близ Рима.
Я вспоминаю один из разговоров, характерных для этого салона, начавшийся с того, что наш бывший посол в Испании дю-Мениль заявил по поводу картин Эльстира:
— Быть может, я слишком постарел, но мне эти вещи кажутся непонятными. Вероятно, это искусство будущего.
— На вас повлияло долголетнее пребывание в Испании, господин посол, — ответил ему художник Пшедомбский с той славянской манерой, которая отличается смесью дерзости с простодушием. — Вы просто перестали ощущать современность.
— Всякое настоящее искусство всегда современно, — сказал Э. Ростан, сидевший напротив хозяйки.
— Помилуйте, — засмеялась графиня, — играя ваши вещи, я всегда молодела. Мне прямо-таки не хватало своего возраста! Я перевоплощалась в собственную мать в дни её молодости. Мне кажется, дорогой мэтр, вы опоздали родиться!
— Следует ли понять вас в том смысле, что мне надлежит исправить эту ошибку и поторопиться умереть? — спросил обиженный академик.
— Вы забываете, что стали уже бессмертным! Вам поздно испытывать подобные желания, — ласково успокоила его графиня.
— Я не могу судить о литературе, но в изобразительном искусстве действительно нет прогресса, — продолжал рассуждать Пшедомбский. — Все дело в том, насколько художник умеет выявить истинную простейшую формулу интересующего его предмета или живого существа. А как правило, всё существующее похоже либо на шар, либо на куб.
— Я никогда не думала, что могу претендовать на такое совершенство формы, — заметила графиня, взглянув на свой портрет работы Пшедомбского.
— Когда я писал ваш портрет, я ещё думал иначе. Клянусь, что, если вы позволите мне начать новый, вы сами не узнаете себя, — откровенно признался художник.
— Боюсь, теперь я не заказала бы вам портрет, — скромно ответила графиня.
— Должен признать, меня крайне привлекает точка зрения г-на Пшедомбского, — заявил А. Франс, занимавший место рядом с графиней. — Ведь ещё древние установили, что шар воплощает идею справедливости: все точки, расположенные на его поверхности, находятся на одинаковом расстоянии от центра. Мне, право, хотелось бы, чтобы объективность моих произведений напоминала шар.
— Если ваше искусство напоминает шар, — весело рассмеялась графиня, — то только в смысле свернувшегося ежа: шар, со всех сторон утыканный иголками!
Не знаем, удалось ли нам этим примером хоть в слабой степени пояснить атмосферу приёмов графини Ч., ту простоту и радушие, которые постоянно встречали гости, ту уверенность, что всякий талант является здесь хозяином. Необычайно живой ум вдохновительницы салона придавал остроту любому разговору, а множество её выражений становились крылатыми словами; её похвалы искали так же, как боялись иронии.
Смерть графа в 1914 г. не изменила существенно положения. Более того; вряд ли мы ошибемся, сказав, что в 1915 г. вилла Ченчи превратилась в тот центр, где формировалось общественное мнение Италии в сторону всё большего понимания необходимости вооружённого выступления на стороне Франции и Англии. Мы не можем не опровергнуть здесь с негодованием слухов, распространившихся в это время в Риме, о будто бы существовавшей близости между хозяйкой виллы, с одной стороны, и известным писателем Габриэлем Д'Аннуцио, адмиралом герцогом Абруццким и лидером футуристов Маринетти — с другой.
Во время войны графиня Ч. организовала в своем особняке лазарет, а её выступления в благотворительных спектаклях собрали значительные суммы на дело помощи сиротам убитых воинов.
Пишущий эти строки никогда не забудет концерта во дворце маркиза Кавальканти, в котором графиня исполняла «танец семи покрывал».
«Она прелестна, эта малютка! Впервые на несколько минут я забыл о Капоретто», — сказал нам генерал Кадорна, утирая слезу, которую суровый воин на этот раз не смог сдержать.
Вот почему все, получившие в 1920 г. приглашения в знакомый особняк на улице Вожирар, так радостно приветствовали возобновление приёмов графини Ч. Казалось, по воле обворожительной хозяйки музы собираются снова у родного алтаря во имя прекрасного... Увы! Новый расцвет салона графини Ч. был очень недолог. В 1923 г. приёмы почти прекратились, а ещё через два года Париж лишился лучшего своего украшения: графиня внезапно исчезла. Её друзья тщетно ждали объяснений, тщетно пытались выяснить причины отъезда или похищения. Столь же безрезультатными остались и усилия властей.
Подходя к этой проблеме, как подобает беспристрастному историку, и разбирая три основные версии, выдвигавшиеся в дружественных графине Ч. кругах, мы затрудняемся с уверенностью остановиться на какой-либо из них.
Героем первого из предположительных вариантов судьбы графини Ч. является магараджа Гвалиора, прибывший в Париж в 1922 г. Быстро попав под обаяние графини Ч., темпераментный индус на глазах всего Парижа огромной расточительностью в подарках и всевозможными другими безумствами доказывал свою преданность поклонника и претендента на руку прекрасной вдовы.
Говорят, что графиня Ч. дала согласие, что молодые уехали в Индию, где будто бы магараджа, дав волю необузданности своего нрава, тиранил её ревностью и заточил в далеком горном замке, где она и умерла.
Второе предположение связывает судьбу графини Ч. с секретарём посольства м-ром Гарри Ремингтоном, чрезвычайно богатым и превосходно воспитанным молодым человеком, которого автор этих строк часто встречал по своим дипломатическим обязанностям в 1918 г. Согласно этой версии, сразу после тайной свадьбы (графиня Элеонора была несколько старше жениха и, вероятно, не хотела преждевременной огласки брака) молодожёны отправились в путешествие и остались на два месяца пожить на одном из малоизвестных островов Полинезии. Гибель яхты Ремингтона со всею командой и с капитаном, единственным человеком, знавшим координаты острова, явилась будто бы подлинной причиной исчезновения молодой четы, ныне, так сказать, затерянной в океане.
Третий слух объясняет пропажу графини Ч. уходом её в один из католических монастырей, где она оплакивает своего мужа.
Мы можем закончить биографию графини Ч. пожеланием как читателям настоящего издания, так и автору этих строк узнать о продолжении жизни этой прекрасной и талантливой женщины.

Генри Вильям Четтерс являлся талантливым представителем поздневикторианскои школы реалистического романа с отчётливой социальной тенденцией в духе фабианства.
Ч. родился в Лондоне в семье настоятеля кладбищенской церкви св. Патрика. Окончил богословский факультет Лондонского университета. В 1875 г. поступил на должность учителя истории в колледж королевы Анны, но уже через пять лет благодаря получению небольшого наследства и успеху своего первого романа «Игрушки жизни» оставил службу и целиком отдался литературному труду.
Второй роман Ч. — «Кладбищенский сад» — принес автору общее признание и упрочил его положение как одного из писателей-реалистов, плодотворно развивающих ту линию социального романа, которая была заложена «Тяжёлыми временами» Диккенса.
Герои «Игрушки жизни» и «Кладбищенского сада» — мечтательные идеалисты, преданные общественной деятельности и верящие в спасение человечества, и в первую очередь своей страны, в результате морально-религиозной реформы жизни, способной изменить установившиеся взгляды, предрассудки и нравы; они неизбежно обречены переносить тяжёлые испытания и разочарования. Однако поддерживаемые неугасимой внутренней верой герои Ч. обычно спасаются от полного крушения, обретая в результате горького опыта реальное представление об ограниченности своих возможностей и о медленности моральной эволюции общества. Занятые скромным, но полезным трудом, лишь в далеком будущем обещающим всходы, они научаются ценить «ежедневную битву жизни, ежевечерний мирный отдых с его скромными радостями, еженощный освежающий покой».
Такова судьбы Джиппа Пелтона («Игрушки жизни») и Моники Фрит («Кладбищенский сад»).
В 1882 г. выходит в свет шедевр Ч. — роман «Очаг зажжён» — первый том эпопеи «Родной дом». Книга эта посвящалась Ч. Дарвину. Великий учёный, как известно, в последние годы жизни немало времени отдавал чтению беллетристики и с дружеским участием следил за развитием таланта молодого писателя.
В предисловии-посвящении Ч. обращается к знаменитому соотечественнику со следующими словами:
«Вы всегда были для меня совершенным читателем, сумев сохранить в преклонные годы такую непосредственность восприятия художественных произведений, с которой огромное большинство людей расстается ещё в юности. И ваше шутливое замечание, что за печальный исход судьбы любимых героев романа автор должен нести уголовную ответственность, всегда казалось мне только наполовину шуткой. Оно значительно и серьёзно.
И мне захотелось написать счастливую книгу, со счастливым концом, о счастливых людях. Счастье их, правда, скромно, но кто знает, может ли вынести человеческая природа без вреда для себя и близких неограниченное счастье?
Не станет ли оно в таком случае источником противоположных начал?
И в работе над этой попыткой нарисовать доступное человеку счастье я постоянно думал о вас и вашем доме. И не потому, что гений часто несет в себе самом силы, распространяющие счастье. Нет! Помимо вашей учёной деятельности, ясная любовная мудрость, царящая в вашем доме, всегда представлялась мне идеалом, выражением благотворной энергии и благословенного тепла домашнего очага».
Эти строки определяют характер романа — мощного гимна любви и семейному счастью. Отправляясь от образцов, завещанных классиками английской литературы — Голдсмитом, Теккереем, Диккенсом, не раз упоминая о страницах этих авторов, то в репликах действующих лиц, то в отступлениях, Ч. добивается глубоко самобытного звучания, казалось бы, традиционных сцен и полностью сохраняет оригинальность в основной задаче: дать столь же взволнованную и захватывающую историю любви в браке, как до сих пор (и, пожалуй, вплоть до наших дней) принято было давать историю влюблённости, историю завоевания чувства в непрерывных победах над препятствиями, мешающими соединению любящих людей друг с другом.
«Замечали ли вы, Лиззи, что большинство писателей, — говорит герой романа «Очаг зажжён» молодой пастор Генри Клиффорд, — рассматривает свободу как конец повествования? Они не жалеют красок, описывая переживания и поступки влюблённых, но отступают перед рассказом о законном счастьи. В большинстве романов, повестей, пьес, драм — брак только счастливый вариант окончания, противопоставляемый несчастному варианту — могиле. Если иногда писатель занят показом семейной жизни, то обычно ради изображения детей, а не родителей.
А разве вчерашнюю нашу прогулку, ужин и чудесный вечерний разговор мы сможем когда-нибудь забыть, Лиззи? Разве это менее значительно, чем то, что мы переживали год назад?..»
Действительно, чудесное описание будничного течения дней, наполненных тем не менее глубочайшим содержанием, слагающимся из едва различимых оттенков, но всё же знакомых каждому, из тех мелочей жизни, в которых проявляется чувство, то в виде борьбы характеров, то в форме взаимной жертвенности, то во влиянии друг на друга, то в обмене душевными богатствами, то в угадывании желаний, то, подчас, в охлаждающем непонимании, в свою очередь сменяющемся новой степенью близости, — всё это делает роман Ч. живым и для современности. Порывая с напряжённой фабульной манерой, столь характерной для современной ему английской литературы, Ч. сосредоточивает внимание на психологическом анализе и на том, что в последнее время мы привыкли обозначать термином «настроение», предвосхищая, таким образом , манеру, развившуюся в начале XX в.
Второй том «Родного дома» — «Очаг греет детей», — вышедший в свет в 1890 г., стал одной из знаменитых книг о детстве, его поэзии, тепле и заботе родного дома, о пробуждении личности в ребёнке. Впрочем, книга эта слишком хорошо известна культурному читателю, чтобы о ней следовало распространяться подробно. Отметим только, что с чисто литературной стороны, при всех своих достоинствах, этот том, быть может, менее оригинален, чем предшествующий: он близок к целому ряду произведений других выдающихся художников, широко откликнувшихся на эту тему во второй половине прошлого столетия. Однако история радостей, шалостей, огорчений и занятий Клер, Бетси и Ната стала, как сказано выше, популярнейшей книгой не только в Англии, но и во всём мире.
Известно, что публика часто склонна отождествлять писателя и близких ему людей с персонажами его произведений. Как Байрон воспринимался современниками через Чайльд-Гарольда, как в лорде Генри подозревали alter ego Чайльда, так в пасторе Клиффорде многие видели самого Ч., в его жене Лиззи — супругу писателя, в Клер, Бетси и Нате — его детей, а у Ч. были две девочки и мальчик, носившие эти имена. И в самом деле, даже понимая, в какой мере творческое воображение художника способно преобразить жизнь и наполнить новым смыслом явление, быть может, только навеянное реальным фактом, читая Ч., нельзя отделаться от чувства, что всё рассказанное списано с натуры, так убедительны и происшествия и разговоры. Выражения детей: «Мамочка, я боюсь играть с этим рыжим мальчиком! вдруг я от него порыжею!», «Мне не стоит, папа, повторять историю: я знаю, что отвечать. Надо только сказать, что города росли и торговля развивалась; в этом вся суть этого... исторической прогрессии... нет — исторической процессии...», «Почему нельзя говорить — «будь он проклят»? Он ушиб моё колено, и я хочу отомстить всем его поколениям...» и множество других вошли в педагогическое исследование как классические образцы детской речи. Вряд ли есть хоть одна школа в Англии, учителя которой не пользовались бы в своей воспитательной работе постоянными ссылками на примеры поведения Клер, Бетси и Ната.
В 1895 г. Ч. опубликовал роман «Открытие планеты», по духу приближающийся к его первым произведениям, а в 1897 г. фантастическую повесть для юношества — «Небесный остров»; в последней вещи Ч. развивает идеи христианского социализма, рисует утопическую картину идеальной страны будущего.
Публика сравнительно вяло приняла эти опыты заслуженного писателя, рассматривая их, так сказать, как промежуточные книги, ожидая новых больших достижений от третьей части «Родного дома», предполагая, что жизнь поможет писателю накопить нужный материал. Однако этим ожиданиям не суждено было осуществиться.
Трудно сказать, в какой мере эта подлинная «трагедия несовершения» связана была с семейными огорчениями, которые пришлось пережить писателю.
Быть может, действительно, пропасть, образовавшаяся между воображаемой жизнью юных героев романа и реальной судьбой детей автора «Родного дома», помешала его творческим планам; быть может, здесь действовали ещё и другие причины — мучительные мысли о неумолимых законах евгеники, о причудливых путях наследования психической конституции, о влиянии на подрастающее поколение новой общественной психологии... Как бы то ни было, мы не можем не упомянуть о событиях, омрачивших последние десятилетия жизни Ч., знаменовавших собой коллизии, аналогичные тем, которые раскрыты в романе знаменитого русского писателя И. Тургенева «Отцы и дети».
Началось с того, что в 1900 г. внимание всей Англии было привлечено к процессу артистки модного варьете «Таверна Фишера», известной по сцене под именем мисс Габи Гелл — de facto — мисс Клер Четтерс, привлеченной к ответственности за выступление в dance des apaches в костюме, оскорблявшем общественную нравственность, и за исполнение ею нарушавших приличие песенок, получивших, к сожалению, широкое распространение под названием «песенки красотки Мукки».
Понятно, что это шумное происшествие должно было огорчить привыкшего к ровному течению жизни престарелого писателя. Через несколько лет (в 1906 г.) в Бирмингеме слушалось дело суффражистки мисс Элизабет Четтерс, обвиняемой в дебоширстве на собрании консервативной партии и в нанесении оскорбления действием председателю местного отделения партии либералов сэру Джорджу Диксон. Не приходится удивляться, что, даже привыкнув всегда уважать чужие убеждения, писатель не мог полностью разделить если не образ мыслей младшей дочери, то, во всяком случае, её образ действий.
В 1908 г. имя мисс Габи Гел — мисс Клер Ч. — снова привлекло к себе общее внимание в связи с волнениями в Гарденбург-Лихтвин, вызванными не столько фактом её близости к наследному герцогу, сколько неумеренными тратами и любовью к драгоценностям. Мы не можем, за отсутствием достаточных данных и риском оказаться на поводу Гарденбург-Лихтвицкой оппозиционной прессы, составить основательное суждение о размерах фактического урона, нанесенного будто бы талантливой артисткой бюджету этого государства. Сравнительно небольшие размеры страны позволяют думать, что речь шла не о такой уж громадной сумме. Но нетрудно понять, как много печальных часов должен был пережить писатель, посвятивший свои лучшие страницы воспеванию тихих семейных добродетелей, читая во всех газетах развязные комментарии о жизни своей дочери, в которых, как это всегда бывает в подобных случаях, гораздо меньше говорилось о незаурядном даровании актрисы, чем о её интимном быте, по-видимому, действительно способном дать несколько сенсационный материал.
Нервы почтенного романиста настолько расшатались, что он не мог скрыть огорчения, когда газеты и журналы наполнились фотографиями его старшей дочери, украшавшими рекламу крупнейшей фирмы элегантного дамского белья «Божественная нега». «Мне грустно видеть милую улыбку Клер, — писал Ч. в письме к одному из близких друзей, — рядом с этими предметами одежды, которая в моё время считалась нескромной и которую женщина могла показать только своему мужу».
В 1910 г. достаточно широкую огласку получил бракоразводный процесс г-жи Елизаветы Вейсс, урожденной мисс Элизабет Четтерс, со своим знаменитым мужем, покушавшимся на её жизнь в припадке ревности, как можно думать, находясь в состоянии аффекта, вызванного углублённым и разносторонним вживанием в роль Отелло, роль, которая впоследствии так блестяще была им исполнена.
Это событие, быть может не столь уж значительное само по себе и вдобавок благополучно закончившееся, также не могло не взволновать нашего писателя. Наконец, организованное м-ром Натаниэлем Четтерсом в 1913 г. ограбление Эдинбургского отделения Национального банка окончательно подорвало силы Ч., уже ослабленные возрастом.
Есть основания полагать, что переживания последних пятнадцати лет в известной степени должны были повлиять на творческие планы писателя, в частности, на задуманный вариант третьей части его монументального труда, так и не увидавшей света.
Ч. тихо скончался во время сна в приобретенном им имении «Родной дом» около Ярмута.

Граф Дитрих Шварцдорф фон Моргенштраль, внук министра иностранных дел и сын военного министра Королевства Вюртемберг, предназначался к военной карьере. В 1870 г. он вышел офицером в 1-й Вюртембергский гусарский полк, с которым и проделал всю кампанию во Франции.
В 1875 г. он женится на баронессе ф. Клюгге, выходит в отставку и поступает, как его дед, на дипломатическую службу Вюртемберга.
Он занимает посты 2-го, а затем и 1-го секретаря посольства в Берлине. В 1889 г. он переходит в Имперское ведомство иностранных дел. В 1892 г. Ш. ф. М. назначается советником Императорского посольства в Брюсселе, а через два года утверждается там же посланником. В 1898 г. он прибывает в ранге посла в Мадрид, где служит 20 лет, вплоть до ноябрьской революции 1918 г.
Своей карьерой Ш. ф. М. в значительной степени был обязан родству с рейхсканцлерами князем Гогенлоэ и князем Бюловым. С отставкой последнего, по существу, остановилось и служебное продвижение Ш. ф. М.
Типичный представитель дипломатов «школы Венского конгресса», скорее светский человек, чем государственный деятель в современном смысле этого слова, сибарит, никогда не переутомлявший себя занятиями, Ш. ф. М. отличалси, однако, неизменным спокойствием, тактом, находчивостью и своеобразным кастовым остроумием. В те времена подобные качества обеспечивали успех в высших сферах и создали ему репутацию человека, обладающего твёрдостью и самостоятельностью взглядов. Немалую роль сыграло и уменье Ш. ф. М. расположить к себе бывшего императора Вильгельма II.
Князь Бюлов рассказывает в своих воспоминаниях об «артистическом свойстве» Ш. ф. М. произносить подчас совершенно бессодержательные фразы с выражением, которое сообщало им уместный и даже значительный смысл.
«Вскоре по прибытии в Мадрид, — пишет Бюлов, — Шварцдорф присутствовал на приеме у королевы-матери, которая сообщила собравшимся только что полученное известие о разгроме испанского флота американской эскадрой. Королева не могла удержать слёз. Приглашённые молчали, чувствуя себя подавленными, не зная, как смягчить царственное горе.
— По поводу этого события, ваше величество, — вдруг громко и энергично сказал Шварцдорф, — я убеждён, может существовать только одно мнение: «Honni soit qui mal y pense!» («Да будет стыдно тому, кто плохо об этом думает!»)
Эта бессмысленная фраза была произнесена с такой проникновенной убежденностью, что лицо королевы сразу просветлело, а наш посол получил звезду ордена Калатравы...»
В мемуарах начальника императорской Главной Квартиры генерал-адъютанта ф. Лукануса мы находим ряд эпизодов, доказывающих незаурядный ум и ловкость Ш. ф. М., например, в известном случае с так называемым «усмирением императора», когда Ш. ф. М. показал себя опытным дипломатом и реальным политиком.
Приводим этот эпизод.
— Как вы осмелились уехать в Биарриц в такое тревожное время? — гневно спросил император Ш. ф. М., вызвав его по телеграфу в начале 1908 г. из Испании в Потсдам. — Вы должны были уведомить меня лично и дождаться моего разрешения уехать из Мадрида! Каждую минуту я могу принять решение начать войну!
— «Regis voluntas supreme lex!» — почтительно, но совершенно спокойно отвечал Ш. ф. М. — Но я получил приглашение короля, о котором имел честь уведомить ваше величество. Я был уверен, что пребывание вблизи особы короля позволит мне быть больше в курсе событий, чем где бы то ни было в другом месте.
— Не говорите этого, — возразил император со свойственной ему импульсивностью, — испанский король забыл о военном ремесле, создавшем когда-то могущество и славу его дому. Он должен был бы учиться этому у меня!
— Быть может, ваше величество позволит мне ответить на эту мысль выражением древних: Si duo faciunt idem non est idem (Если двое делают одно и то же, это не значит, что получается то же самое), —тонко поддержал императора Ш. ф. М. — В наше время осталось немного монархов, способных относиться к войне как к истинному императорскому и королевскому спорту... Но зная моего суверена как джентльмена прежде всего, я был уверен, что вы не захотите начинать действовать зимой, до открытия спортивного сезона и, признаюсь, я с удовольствием провел эти недели в Биаррице.
— Я рад, что вы отдохнули, — милостиво сказал император, явно довольный словами посла. — Вернувшись в Мадрид, вы должны попытаться пробудить в короле Альфонсе дремлющий дух его воинственных предков. Если Европа будет охвачена войной, он мог бы попытаться вернуть своё владычество над Нидерландами, законным повелителем которых он, по сути дела, является...
— Боюсь, ваше величество, что король не оценит всю глубину и практичность ваших советов. Как говорят французы, — а король достаточно внимательно прислушивается к мнениям моего французского коллеги, — Qui trop embrasse mal entreint (Кто много охватывает, — плохо удерживает).
По окончании разговора я, обеспокоенный фантазиями императора, с волнением спросил у Ш. ф. М., считает ли он возможным выступление Испании на нашей стороне в случае европейского конфликта, и неужели мы можем согласиться на то, что Нидерланды отойдут королю Альфонсу?
— Советую вам забыть обо всём, что вы только что слышали, — отвечал посол со своей всегдашней невозмутимой манерой, — это лучший способ верно служить нашему повелителю, который слишком часто склонен пренебрегать заветом римлян: Est modus in rebus, sunt certi denique fines (Есть мера в вещах и существует известный предел)...
Расположение императора Вильгельма и короля Альфонса помешало рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу и статс-секретарю ф. Ягову убрать Ш. ф. М. с поста в Мадриде, хотя между германским послом в Испании и новыми руководителями имперской политики происходили постоянные трения. Известно, например, как дерзко ответил Ш. ф. М. на инструктивное письмо канцлера, в котором тот пытался оправдать неудачи своей политики в начале первой мировой войны: «Я убеждён, ваше превосходительство, что потомство скажет о ваших действиях словами древних: «Feci quod potui, faciant meliora potentes» («Сделал всё, что мог, могущие пусть сделают больше»), хотя, как мне представляется, большего ждать уже трудно. Если же попытаться обратиться к заветам отечественной литературы, мне кажется, немецкий народ должен почтить вас словами, которыми горожане приветствовали в своё время доктора Фауста:
| Учёный муж! Ты многих спас! Живи сто лет, спасая нас! — |
ибо за меньший срок вряд ли удастся поправить дело...»
Не подлежит сомнению, что в годы войны Ш. ф. М. успешно осуществлял свою миссию, сумев сохранить расположение двора и влияние в деловых кругах. С именем Ш. ф. М. связаны некоторые попытки Германии начать мирные переговоры в 1916 и 1917 гг. Это, по-видимому, было обусловлено его критическим отношением как к правительству Бетман-Гольвега, так и к системе подчинения гражданских властей диктату военного командования.
Ряд авторов воспоминаний рассказывает о неудачных попытках Ш. ф. М. играть активную политическую роль в событиях осени — зимы 1918 г. Он считал необходимым и возможным сохранить империю и обратился к б. императору с просьбой позволить ему умереть с ним вместе на передовых позициях ради спасения династии. «Я надеялся на актёрский рефлекс, — говорил Ш. ф. М. по этому поводу. — Ведь император был выдающимся артистом, быть может единственным, имевшим право повторить слова Нерона: «Какой великий артист погибает!»
Известно также, что Ш. ф. М. посетил ставку Гинденбурга и пытался уговорить фельдмаршала продолжать борьбу, закрепившись на берегу Рейна. Он считал возможным втянуть в войну на стороне центральных держав Испанию, однако при том условии, что будет сделана отчаянная (и, с нашей точки зрения, неосуществимая) операция — высадка на её берегу крупного десанта, операция, поддержанная активностью всех наличных сил германского флота. По-видимому, события этих суровых месяцев и масштабы испытаний, выпавших на долю его родины, несколько нарушили душевное и интеллектуальное равновесие изящного дипломата и светского скептика.
После крушения империи Ш. ф. М. вышел в отставку и проживал в своем имении на берегу Неккара. В 1922 г. он, по приглашению короля Альфонса, переехал в Испанию, где и умер в Биаррице от артериосклероза.
(*) «Regis voluntas supreme lex!» — «Воля короля — высший закон!» (лат.)

Дух сурового благочестия и патриархальности, господствовавший в скромной семье пастора глухого местечка Хаммерталь на севере Норвегии, где родился будущий глава литературной школы Нео-Эддизма, не препятствовал, однако, повышенному интересу к отечественной старине и, в частности, к поэтическим памятникам дохристианского периода.
Восприняв от отца и старшего брата горячую любовь к этим ранним творениям народного духа, Эриксен вместе с тем закончил период своего домашнего и школьного воспитания с затаённым чувством жгучей ненависти к ригоризму и к мещанской морали норвежского захолустья. В 1883 г. он поступил в университет в г. Осло (тогда — Христиания), философский факультет которого и окончил пять лет спустя. Общение с представителями студенческой и литературной общественности способствует окончательному определению Э. своих идейных позиций. Непримиримый враг христианских основ европейской цивилизации, молодой поэт как бы призывает благословение языческих божеств древности на свой литературный дебют, отказавшись от скромного имени и от фамилии, унаследованных от отца, и выступая под воинственным псевдонимом Сигурд Мйольнир. Романтическим индивидуализмом веет и от сборника его юношеских стихов, вышедшего под многозначительным заглавием «Наггльфар».
Здесь Э. подвергает одинаково суровому бичеванию как монашеско-аскетический, так и литературный идеал благочестивой, твёрдой в своих моральных устоях семьи. «О, громыхающие духи великих викингов! — восклицает поэт. — Обуреваемый гневом последний скальд скликает вас против ваших потомков, променявших бури океана и штормы духа на участь троллей. Зарыдайте — и скалы Хаммерталя треснут снизу доверху; захотите — и университет Осло взлетит на воздух со всеми грудами своей учёности...»
Увлечённый образами эддической поэзии, Э. выдвигает новый идеал: совмещение в одной личности всего зла и всего добра, доступных человеку. Этому идеальному образу он присваивает наименование «человека двойного размаха». В философии этой сказывается, конечно, современник Фр. Ницше: легко угадываются в ней и отголоски поэзии французских символистов, в особенности Ш. Бодлера и Жерар де Нерваля, придающие утончённое изящество и смысловую многоплановость стихийно космическим образам германской мифологии.
«Наггльфар» стяжал признание молодежи, выдвинул юного автора в первые ряды норвежских поэтов. Вместе с тем вызывающий тон этой оригинальной музы, местами, пожалуй, даже выходящий за пределы литературно-допустимого, вызвал взрыв негодования в правых и умеренных кругах норвежской общественности. В жизни самого Э. его первая книга получила значение рубежа, навсегда отъединившего его от родной семьи и прежних друзей. В продолжение 10 лет Э. живет в Осло, добывая средства к жизни случайным литературным трудом и изучая древнегерманские тексты в столичных книгохранилищах. Плодом этих вдохновенных занятий является филологическое исследование «Руны как рудимент древнейшего индогерманского алфавита», а также работа, не вполне отвечающая требованиям современной науки, слишком, быть может, строгим: «Исторические факты взаимопроникновения мифов, засвидетельствованные норвежскими и исландскими авторами VIII — XI столетий». Характер этой работы указывает на то новое направление, которое приобрели интересы Э.; попытка осмысления северогерманской мифологии под углом зрения оккультных теорий сказывается и в его романе «Самоубийство бога», опубликованном в 1897 г., выдержавшем за два года восемь изданий и переведённом на большинство европейских языков. Герой романа, молодой ученый-лингвист, приоткрыв покров символов, драпирующих оккультную глубину Эдды, решает строить свою жизнь согласно рецептам древних тайновидцев, в основных чертах совпадающих, как и можно было ожидать, с идеалом «человека двойного размаха». К сожалению, в этом романе нельзя не усмотреть гораздо больше автобиографических подробностей, чем можно было бы желать в интересах самого Э. Недостаточность документальных материалов, до сих пор опубликованных, не позволяет нам с уверенностью утверждать, что предосудительные, а порою даже вопиющие деяния героя романа точно отражают те или иные стадии развития самого автора. Однако цепь прискорбных происшествий, омрачивших биографию последнего скальда, доказывает с неопровержимостью, что о полном разграничении творчества и жизни писателя в данном случае не может быть и речи. Без труда прослеживаются в романе Э. также следы его двухлетнего (1895 — 1897) пребывания в Париже, где он предавался философическому изучению сексуальных причуд богемы и подонков «нового Вавилона». Критика обратила внимание также на реминисценцию идей Гюисманса, с одной стороны, Достоевского — с другой, обозначившуюся в романе «Самоубийство бога».
Сборник лирики «Я хочу», вышедший в 1901 г., не внес существенно новых черт в картину миросозерцания Э. Но в том же году мятежный борец за неограниченную свободу человеческого духа был привлечен к суду по обвинению в участии в чёрных мессах.
Судебное разбирательство не сумело внести должной ясности в противоречивые показания свидетелей этих утончённых забав нашего времени: Э. был оправдан, несмотря на негодующие голоса прессы, превратившиеся под конец в настоящий вопль. Этот вопль перерос в бурю, когда год спустя Э. подарил своих соотечественников новым романом «Выше безумия», где свойственное ему устремление к совмещению взаимоисключающих состояний выразилось в пропаганде оригинальной идеи совмещения в одной, всеобъемлющей личности острого душевного заболевания с полным душевным здоровьем. Реакция общественности на это смелое произведение пошатнула хрупкую нервную организацию автора; он погрузился в состояние глубокой прострации, под конец сумев, однако, почерпнуть новые жизненные стимулы даже в стенах психиатрической лечебницы. Самоотверженная любовь скромной больничной няни в отделении для буйных открыла перед ним путь к восстановлению душевного равновесия. Материальное положение его, упрочившееся благодаря успеху обоих романов, позволило Э. отказаться от литературной деятельности и уединиться с горячо любившей его женою в местечко Хаконфьорд на юге Норвегии.
Незаконченный роман «Вот корень жизни!», опубликованный уже после смерти Э., показывает, что перед исстрадавшимся странником по высотам и глубинам собственного «я» открывались новые жизненные перспективы в тихом счастье у семейного очага... Но рок судил иное: трагическая случайность оборвала жизнь Э. в самом начале этого многообещающего этапа. В марте 1910 г. глашатай новых понятий добра и зла погиб в собственной спальне — больше того, в собственной постели, — когда, переворачиваясь в темноте с одного бока на другой, ударился случайно головою об угол ночного столика.
(*) Мйольнир — молот бога Тора.
(*) Наггльфар — согласно древней северо-германской мифологии название корабля, построенного из ногтей мертвецов, который должен появиться перед концом мира (см. «Эдда», часть 1).

Валтасар Тигранович Эскимосьянц происходил из знатного рода, известного по письменным источникам с 1230 г.
Будучи привезён в Петербург в детстве для поступления в Шляхетский корпус, Э. глубоко сблизился с русским обществом и ставшей ему родной армией.
Пылкий и несколько необузданный, он трижды арестовывался и исключался со службы при Павле I «за вредное озорство, выдающее якобинские его замашки» и дважды переводился из гвардии в армию при Александре I, «за неподобающее офицеру и дворянину поведение в присутствии августейших особ и дам».
Однако Э. был любим товарищами, подчинёнными и начальством как храбрый боевой офицер и человек редкий бескорыстности. Атака его эскадрона решила исход авангардного сражения при местечке Сан-Джулиано в итальянском походе Суворова. При Прейсиш-Эйлау он командовал лихой атакой Кардниковского гусарского полка. Во главе этого же полка участвовал в русско-шведской войне. В Бородинском бою Э. командовал бригадой лёгкой кавалерии, дважды атаковавшей центральный редут, захваченный французами. Последняя кампания Э. — поход в Польшу 1831 г. Истый гусар тех времен, в духе воспетого Д. Давыдовым знаменитого Бурцева, добродушный и беспечный, Э. окончательно разорился.
Он был популярен своей любовью к шампанскому и подлинной страстью к мороженому, которое его повар ежедневно готовил на всех офицеров полка; без этого лакомства Э. буквально не мог прожить дня, даже в жестокие месяцы зимы 1809 г., во время перехода по льду Ботнического залива к берегам Швеции. По мнению ряда исследователей, эта его склонность снискала такую широкую известность, что её пережиточным влиянием объясняется происхождение распространенного и в наши дни названия мороженого «эскимо».
Э. удалось поправить материальное положение женитьбой на Прасковье Ивановне Ягодиной, дочери богатого московского купца. Этот брак заставил Э. выйти в отставку в чине генерал-лейтенанта.
Последние годы жизни Э., под влиянием жены и увлекаемый неудержимым темпераментом, впал в раскол, едва ли не в хлыстовство. В своем имении «Хладные ключи» он построил раскольничий скит, где происходили тайные собрания и моления. Ни военная слава, ни личная известность Э. государю не помогли: по личному приказанию царя, московский генерал-губернатор светлейший князь Голицын был вынужден отрядить чиновников, застигших Э. ночью, во время «незаконного сборища».
После тайного расследования дела царь утвердил решение Сената о ссылке Э. с женою в Соль-Вычегодск, где они и проживали до смерти. Детей у Э. не было.
В литературе Э. известен по строкам, приписываемым Жуковскому:
| Хвала наш князь! Вперёд! Ура! Врага ты покараешь — И вновь у дружного костра Свой сладкий лёд глотаешь! |
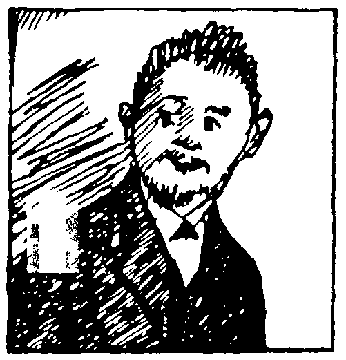
Евгений Лукич Ящеркин родился в г. Арзамасе Нижегородской губ. в семье мещанина, имевшего соляной лабаз на городском рынке. По окончании городского училища Я. благодаря выдающимся способностям удалось успешно выдержать вступительный экзамен в Рязанский учительский институт, который он и окончил в 1885 г.
Педагогическая деятельность Я., сперва протекавшая в русле русской педагогической традиции, началась на должности учителя словесности и географии в Трубчевской мужской гимназии (г. Трубчевск, Орловской губ.). Ни в образе жизни, ни в воспитательных методах Я. ничто ещё не давало оснований усмотреть в молодом учителе будущего теоретика и практика одной из оригинальнейших педагогических доктрин. Скудость биографических данных не позволяет нам установить, под воздействием каких именно философских и научных теорий складывалось его своеобразное credo, хотя, на наш взгляд, отголоски некоторых идей Руссо в доктрине сознательного инфантилизма очевидны.
Трубчевские старожилы свидетельствуют лишь о том, что на фоне медленно текущей жизни уездного города Я. в продолжение семи или восьми лет не проявил себя ничем выдающимся. По-видимому, со стороны своих питомцев он пользовался известным авторитетом как справедливый наставник и хорошо знающий свой предмет учитель; однако в особой напряжённости его умственной деятельности в этот период можно усомниться.
Та поражающая своей простотой идея, которая лежит в основе теории сознательного инфантилизма, осенила её автора внезапно, как своего рода озарение. Очевидно, как у многих одарённых натур, запас жизненных наблюдений, исподволь накапливавшихся где-то в подсознательной сфере ума скромного труженика на ниве народного просвещения, под влиянием неизвестного нам толчка вдруг озарился ярким светом, явив изумлённому разуму картину мировой жизни в новых соотношениях и закономерностях.
«Если мы хотим сделать человечество счастливым и гармоничным, — пишет Я. в своем основном труде «Стань ребёнком», — мы должны прежде всего правильно воздействовать на неокрепшую и податливую психику ребёнка. Если мы хотим на неё правильно воздействовать, мы должны понять её. Если мы хотим понять её глубоко и всесторонне, к этому нет лучшего пути, как уподобиться детям. Если же мы хотим уподобиться детям, то мы должны весь наш быт, наш душевный и житейский обиход построить так, чтобы воспринимать явления как дети, поступать как дети, рассуждать как дети. Только тогда преграда между нами и душою подростка или ребёнка — это проклятие всякого педагога — падёт; как бы перевоплощаясь в воспитуемого, мы получим такие возможности воздействовать на него, какие и не снились закоснелым воспитателям прошлого и настоящего».
Стройная логичность посылок и выводов, кристаллическая ясность изложения, неотразимая убедительность основной мысли делают это небольшое по объёму (всего 82 с.) произведение одним из драгоценнейших вкладов в сокровищницу русской педагогической литературы. Впервые уяснилась самому Я. эта идея весною 1894 г. и, как видно из дальнейших фактов его биографии, сразу захватила его с такой силой, что летние каникулы он целиком посвятил обдумыванию педагогической методики, равно как и проверки её экспериментальным путем. Глубоко честный и добросовестный по природе, наш мыслитель не мог успокоиться до тех пор, пока идея не получила безусловного подтверждения на путях строго научного опыта.
Первый эксперимент этого рода был произведен исследователем ещё в мае, в конце учебного года. Исходя из своей концепции перевоплощения педагога в ребёнка, Я. заключил, что ничто не даёт столь надежного ключа к пониманию души ребёнка или подростка, как повторение педагогом тех невинных шалостей и весёлых затей, которые свойственны непосредственному и жизнеутверждающему мирочувствию этого возраста. Однажды, собираясь после окончания уроков покинуть здание гимназии, Я. обнаружил, что его калоши прибиты гвоздями к полу. Эта довольно обычная, хотя и дерзкая, проделка школьной детворы, во всяком другом способная вызвать лишь раздражение, натолкнула вдумчивого наблюдателя на оригинальный эксперимент. На другой день, запасшись молотком и гвоздями, Я. с замирающим сердцем занял пост в темном углу учительского гардероба, ожидая подходящего мгновенья. Когда все преподаватели разошлись по классам, экспериментатор с чисто отроческим проворством не замедлил прибить к полу четыре пары калош. Но стук молотка привлек внимание гимназического служителя; Я. пришлось пренебречь последнею парой резиновой обуви, так и не получившей повреждений, и, спрятавшись в ретираде, наблюдать оттуда сквозь щёлку за растерянностью отставного унтер-офицера, тщетно пытавшегося обнаружить нарушителя порядка.
С мужественной откровенностью рассказывает наш исследователь о том, как гимназическое начальство заподозрило в недопустимой шалости одного из гимназистов III класса, который и понес наказание вместо истинного виновника. К сожалению, нет такой отрасли науки, которая в своем развитии не требовала бы некоторых жертв... разница — только в количестве! К тому же эту трагическую коллизию — вынужденное лицезрение того, как за твой поступок страдает невинный, — тоже следовало испытать и лично пережить всякому, кто стремился понять до дна детскую душу.
Окончание учебного года заставило Я. перенести свои опыты из стен гимназического здания в жизненную сферу трубчевских обывателей. Объектами послужили на первых порах хозяева скромной квартирки исследователя — престарелый о. Нектарий — священник церкви Сорока мучеников, известный своей строгостью и благочестием, и его супруга. Оба сына досточтимой четы проходили в это время курс в Орловской семинарии, и тихий домик на Ильинской улице давно уже отвык от шума детских игр. Это обстоятельство особенно ободрило исследователя, т. к. здесь, за неимением несовершеннолетних, уже никто не мог поплатиться за его предприимчивость, а тайну экспериментов можно было уберечь от преждевременных разоблачений.
Супруга о. Нектария имела привычку посвящать каждый пятый день недели, и особенно вечер, изготовлению особого рода пончиков и других изделий питательного свойства, долженствующих скрасить в субботу и воскресенье домашний стол служителя церкви. О. Нектарий в таких случаях отходил на покой, не дожидаясь матушки, а последняя довершала уединённо и, так сказать, келейно дневной труд в своей маленькой кухне. Кухня эта сообщалась с жилыми комнатами узким, но довольно длинным коридором, и это-то обстоятельство и навело Я. на идею очередного эксперимента.
В один из таких вечеров, дождавшись, когда лёгкое похрапывание возвестило, что о. Нектарий уже не может послужить помехой научным изысканиям, Я., сбросив ботинки и ступая на цыпочках, снёс из столовой и гостиной все стулья, кресла и даже маленький столик в коридор и бесшумно нагромоздил их друг на друга, так, что на протяжении двух саженей — от двери кухни до двери спальни — образовалось заграждение высотою в человеческий рост. Замирая от счастливого предчувствия, свойственного в подобных случаях десятилетнему возрасту, педагог дождался в своей комнате той минуты, когда усталая старушка, давно уже помышлявшая о заслуженном отдыхе, попыталась приоткрыть дверь из кухни в коридор и, встретив препятствие, довольно долго не могла, по-видимому, сообразить, в чем дело. Но и уразумение происшедшего не облегчило её положения: опасаясь разбудить строгого и взыскательного супруга грохотом обрушивающихся стульев и теряясь в то же время в догадках о виновнике странного явления, она целых полчаса пробиралась через баррикады, а потом разносила мебель по местам. Происшествие было столь необъяснимо, что даже наутро старушка не посмела поведать о нём о. Нектарию из опасения остаться непонятой или даже заподозренной в нелепых шутках, не подобающих её возрасту.
Следующим объектом опыта явился сам о. Нектарий. Возвратившись уж заполночь от благочинного, где вечер был проведен за преферансом, священник, как всегда, отпер дверь своего домика ключом и, не предчувствуя ничего дурного, шагнул в гостиную, через которую лежал путь в спальню. Но едва успел он сделать по гостиной два-три шага, как нечто тонкое и упругое, хотя и несколько отступившее под его натиском, преградило ему дорогу. В темноте священнику удалось убедиться на ощупь только в том, что это — бечёвка или шпагат, протянутый поперек комнаты на аршин от пола. Недоумевая, зачем понадобилось матушке развешивать белье для просушки именно в гостиной, да и к тому же над самым полом, о. Нектарий попытался свернуть вправо, но, к чрезвычайному его раздражению, и там дорогу ему преградила верёвка. Он подался влево, наткнулся на невидимую препону в третий раз, и в ту же секунду силуэт большого фикуса, смутно выделявшийся в отдалении на фоне окна, качнулся — и внезапный грохот, соединённый со звоном разбивающегося цветочного горшка, возвестил о печальной судьбе экзотического растения, слишком хрупкого для наших жизненных условий.
Наставительный и требовательный по своей природе о. Нектарий, однако, редко сердился на свою супругу так, как в этот раз. Когда матушка, поднятая с перин шумом опрокидываемой мебели и голосом владыки дома, вбежала в гостиную со свечою в руке, ей пришлось выслушать суровое обличение в том, что, найдя будто бы для сушки белья столь неподходящее место как гостиная, она даже не озаботилась вовремя снять веревки, чем подвергнула опасности жизнь богом данного ей мужа. Тщетно божилась бедная старушка, что она здесь ни при чем и что это — проделки домового. Наставник человеческих душ остался непоколебим в своем заблуждении до самой осени, пока ход событий сам собою не привел хозяев домика к пониманию истинных причин загадочных явлений.
Но ограничивать поле своей деятельности пределами этого домика отважный исследователь не намеревался. Сведя знакомство с окрестными мальчишками, в числе которых было и два гимназиста, он проводил каникулы среди детворы, разделяя все её забавы и всё глубже проникая в неисследованные пласты детской психологии. Рыбная ловля, хождение за грибами и ягодами, ловля раков, игра в бабки, купанье в речке — всё было испробовано и изучено, и Я. чувствовал, как молодеет его дух, как бы возвращаясь к девственной поре своего существования. Дети, сначала никакого удовольствия от проникновенья взрослого, да и к тому же учителя, в их жизнь не испытывавшие, постепенно прониклись к Я. доверием. Он убедился, что ничто в такой мере не способствует крепкой спайке и установлению дружеских привязанностей, как совместные шалости с их круговою порукой.
Известно, что мальчик, для которого не таилось бы острых наслаждений в набегах на чужие сады за зелеными яблоками, — лицо абстрактное, мифическое, выдуманное морализирующими наставниками, ничего не понимающими в детской душе. Разумеется, и в Трубчевске набеги эти совершались постоянно, но Я. всё-таки не решался принять в них участие из опасения, что кто-нибудь из малолетних может разоблачить тайну. Но потребность изведать и это детское переживание была столь велика, что наш исследователь решился предпринять набег на яблоки в одиночестве. В безлунную ночь прокрался он к забору, опоясывавшему плодовый сад купца Гамова, и, царапаясь о гвозди, которыми был утыкан конек забора, кое-как перевалился в сад. Эксперимент удался как нельзя лучше: все переживания, которые так страстно хотелось испытать отважному мыслителю, были испытаны — и не шутя, а всерьёз: он крался по росистой траве среди яблонь, он карабкался на деревья, он настораживался от шума трясомых веток и падающих яблок, он замирал от поднявшегося во дворе лая и топота бегущих ног, он срывался с дерева и опрометью бежал к забору, чуть не выкалывая себе глаза встречными ветками, он ухватывался за верхнее прясло и судорожно подтягивал туловище, он уже перекидывал на ту сторону одну ногу — и чувствовал, как преследователи ухватываются за другую. С торжеством, с чувством освобождения от величайшей опасности он пережил то мгновение, когда в руках преследователей остался только его левый сапог, и, возбуждённо дыша, помчался по улице, в темноте оступаясь с дощатых тротуаров и попадая разутой ногой в лужи. Упоительно прекрасен был и завершающий момент опыта, когда в безопасности, уже в своей комнате, психоиспытатель мог предаться чисто детской весёлости, вспоминая пережитое и убеждая себя в прелестном вкусе яблок, таких кислых, что начинали ныть зубы и сводило скулы.
К началу учебного года Я., по свидетельству трубчевских старожилов, изменился так заметно, что это не могло укрыться от взора директора гимназии. Возбуждённое, всегда приподнятое настроение, безразличное отношение к своему костюму, загадочная улыбка, постоянно блуждавшая на его устах, неожиданный и беспричинный хохот — всё это заставило директора гимназии повнимательнее присмотреться к педагогу, дозволявшему, как это казалось другим учителям, «что-то слишком уж фамильярное отношение к себе» со стороны гимназистов. Однако то, что могло показаться со стороны фамильярностью, в действительности было новым типом отношений: активное вживание в детскую психику и практика сознательного инфантилизма привели к исчезновению всех естественных границ между воспитателем и воспитуемым, в то же время сделав Я. в глазах подрастающего поколения высшим авторитетом по части всевозможных затей.
В нашей художественной литературе не раз отмечалось уже, что романтическая мечта о бегстве в Америку, издавна знакомая русским школьникам, в конце прошлого века приобрела особую остроту. Естественно поэтому, что вскоре Я. обнаружил существование проекта такого рода среди своих учеников и не замедлил придать ему ту художественную законченность, которая отмечает все начинания нашего исследователя. Во всяком случае, без участия взрослого человека вряд ли удалось бы юным конквистадорам убежать дальше ближайшей железнодорожной станции. Следовательно, тот факт, что обнаружение и поимка беглецов состоялись только уже на Берлинском вокзале в Варшаве, неоспоримо доказывает вдохновляющую роль и творческое воздействие Я. Так или иначе, 35-летний мыслитель и два гимназиста IV класса после четырехдневного преследования были задержаны и доставлены в г. Орёл. Это прискорбное сообщение, заставившее Я. немедленно подать в отставку, совпало с выходом в свет издания Орловского книжного магазина Волкова знаменитого исследования «Стань ребёнком», где с обезоруживающей искренностью изложены не только заветные идеи автора, но и открытая им методика, опирающаяся на ряд подробно описанных экспериментов, лишь малая доля которых была упомянута нами здесь.
Невозможно освободиться от чувства горечи и, мы бы сказали, некоторой неловкости за педагогику 90-х гг., за её косность и страх перед всем новым и свежим, когда знакомишься с теми откликами на этот труд, полными рутинерского негодования, глубокого непонимания и даже глумления, которые не замедлили появиться в общей и специальной печати не только в Орле, но и в Петербурге. На этом фоне позиция известного педагога-теоретика Щукина, занимавшего в то время пост попечителя Учебного округа (именно от него зависела дальнейшая судьба Я. Как педагога), кажется сравнительно гуманной и, во всяком случае, честной. Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, Щукин категорически отверг версию об умопомешательстве Я., равно как и оскорбительное подозрение в злонамеренно-хулиганском характере его опытов. Опубликованная в «Журнале Министерства народного просвещения» статья Щукина радует той принципиальной высотой, до которой смог подняться в этом случае непримиримый противник теории сознательного инфантилизма.
Невозможность продолжать педагогическую деятельность в условиях царской России заставила Я. подумать о приложении своих сил и об осуществлении своих заветных идей вне отвергшего его отечества. Опасаясь, что в любой другой цивилизованной стране он может встретить столь же глубокое непонимание, Я. остановил свой взор на одной из стран, с древних времен пребывающих в состоянии неомрачённой инфантильности, где дети народа, не искалеченного европейской цивилизацией, с распростертыми объятиями встретили бы автора учения «Стань ребёнком»: на Абиссинии. Как раз в эти годы отбытие русской миссии к Менелику II, научные экспедиции д-ра Елисеева, Булатовича, Артамонова, укрепление связей между русской и абиссинской церквями повысили интерес русской общественности к далекой империи «чёрных христиан».
Надежда Я. на Менелика, преобразователя своей страны, вполне оправдалась: обласканный императором, русский мыслитель получил возможность устроить школу в недавно присоединённом к Абиссинии городе Харраре, где училище, основанное на принципах русского (т. е., как казалось Негусу, христианского) воспитания, должно было служить противовесом влиянию магометан, издавна обитавших в этом городе. Незнание абиссинского языка вполне возмещалось изобретённым Я. специально для этого случая языком жестов.
К сожалению, почти единственным источником, позволяющим нам составить представление о жизни Я. в Харраре, остаются его письма в родной Арзамас брату Порфирию Лукину — письма всё более редкие, более лаконичные и, наконец, после одного сообщения колоссальной важности прекратившиеся вовсе. Очевидно, своеобразие жизненных условий, в которых оказался русский педагог, ещё усугублялось им по собственной воле.
В короткое время он сделался в буквальном смысле слова кумиром воспитанников, ибо основная мера его воспитательного воздействия, развивавшая в учениках смелость, отвагу, волю, предприимчивость и весёлый, легкий характер, заключалась во всевозможных проказах, проводимых группой мальчиков сообща с педагогом. К сожалению, местные землевладельцы и духовенство не сумели в должной мере оценить этот передовой метод. Из одного глухого замечания Я. можно заключить даже, что он сделался объектом покушения, к счастью — неудачного. Остается не вполне ясным, как именно был организован этот возмутительный акт варварства; во всяком случае, во время скачки Я. со своими учениками на жирафах животное, нёсшее на себе воспитателя, было вероломно загнано с открытой местности под древесную сень; не умея остановить невзнузданное животное, Я. запутался растрёпанной шевелюрой в древесных ветвях и, сорванный с жирафа, повис, подобно библейскому Авессалому, на аршин от земли.
Неизвестно, чем окончилась бы для Я. эта фанатическая вражда, которую он возбудил к себе со стороны реакционных кругов абиссинского общества, если бы новый перелом в его жизни не расторг его связей не только с абиссинским, но и со всяким человеческим обществом вообще.
«Поделюсь с тобой, любезный Порфиша, — пишет он брату в своем последнем письме, — ослепительными перспективами, передо мною открывшимися. Язык жестов, об усовершенствовании мною которого ты уже знаешь, оказывается ключом к целому миру открытий. Это тот самый язык, отсутствие которого мешало нам до сих пор перебросить мост через пропасть, отделяющую человека от высших животных. Я убедился, что обезьяны понимают меня порою не хуже, чем абиссинская детвора.
Будь что будет, но в интересах гуманнейшей из наук — педагогики я решил отныне посвятить себя просвещению при помощи этого языка несчастного отверженного племени, вся вина которого состоит в обладании хвостом».
В итальянском католическом журнале «Fides Apostorica» за 1907 г. нам удалось обнаружить интереснейший документ, проливающий свет на роковую минуту в биографии Я. — минуту его исчезновения из человеческого общества. Документ этот — воспоминания настоятеля католической церкви в Харраре Бонифацио Кончины о его деятельности в Абиссинии. Страницу этих воспоминаний, относящуюся к Я., приводим полностью.
«С некоторого времени все, кому было доверено духовное руководство населением г. Харрара, были обеспокоены появлением некоего русского по имени Черкино (Cerhino). Этот авантюрист или, как думали некоторые, помешанный имел, по-видимому, на своей стороне связи в правительственных сферах, ибо ничем иным невозможно объяснить покровительство, которое оказывал ему император Менелик. Черкино основал в Харраре некое подобие, вернее, странную карикатуру училища, общаясь с воспитанниками путем жестикуляций. Вместо передачи абиссинским детям полезных знаний этот самозваный педагог занимался только тем, что выдумывал и вместе с воспитанниками совершал дикие непростительные выходки. Особенно пострадали от его бесчинств следующие лица: армянский негоциант Мирзоянц, которого этой компании удалось испугать, инсценировав появление льва, вследствие чего негоциант, спасавшийся бегством, вывихнул себе ногу; священник-ортодокс Дебра Либанос, которого хулиганы довели до обморока, мороча его привидениями; мулла Хассан-Керим, поставленный ими в положение, о котором стыдливость заставляет умолчать, и многие другие. Жалобы императору и митрополиту в Энтото, равно как и вмешательство раса Заиту, ни к чему не приводили. Наконец к счастью для Харрара, в мозгу этого русского мелькнула светлая идея, и он уразумел, что общество обезьян подходит ему гораздо больше. Так как обезьяны в изобилии водятся в окрестных лесах и являются свирепыми истребителями фруктов, то владельцы садов в Харраре обращаются с этими животными без излишней нежности. Черкино взял животных под свою защиту, и много раз его видели с группами обезьян, обменивающегося с ними недвусмысленной жестикуляцией, способной погрузить в печальные размышления всякого христианина. Наконец, автор этих строк вместе с другими жителями оказался непосредственным свидетелем странной и возмутительной сцены.
Однажды в лунный вечер подле городских ворот обезьяны подняли ужасный шум. Выйдя из ворот, я увидел, что шум этот, как и вообще всякий беспорядок в Харраре, вызван всё тем же Черкино: залитый лунным светом, он носился по лужайке с обезьянами в экстатическом танце. Приблизившись к опушке леса, несчастный обернулся к городским воротам и, видя нескольких человек, с нескрываемым осуждением наблюдавших его действия, стал совершать нечто вроде реверансов и особых движений руками, имевших, несомненно, смысл прощального приветствия. Затем, подхваченный с обеих сторон обезьянами, он устремился к деревьям и, с поразительной ловкостью вскарабкавшись по сучьям, исчез в листве. По ликующим крикам стаи можно было заключить о том, как она удалялась со своим новым товарищем в направлении девственных тропических лесов Шоа. Никаких известий о дальнейшей судьбе этого русского население Харрара не дождалось».

Талантливейший самородок Порфирий Лукич Ящеркин родился в г. Арзамасе в семье мещанина, торговавшего солью в небольшом собственном лабазе на городском рынке. Младший брат известного педагога Е. Л. Ящеркина (см. его биографию в настоящем выпуске), в противоположность участи своего старшего брата, сумевшего благодаря настойчивости и твёрдости характера вырваться из захолустной среды, П. Л. обречён был печальной судьбе: гениальный изобретатель не смог получить сколько-нибудь широкого образования и должен был подчиниться категорическому требованию отца продолжать собственное торговое дело. Я. закончил четырёхклассное городское училище и в дальнейшем лишь случайным чтением пополнял свои представления о достижениях техники и перспективах её развития. Изобретатель почти не покидал родного города, за исключением деловых поездок в Нижний Новгород на ярмарку, в Соликамск на солеварни и на Баскунчакские соляные промыслы.
Тем не менее именно Я., жителю скромного провинциального городка, известного в ту пору лишь отменным качеством разводимых обывателями гусей, суждено было самостоятельно прийти к научно-техничесским обобщениям исключительного значения, на много десятилетий опережавшим свою эпоху, одинаково важным как для мирной экономики, так и для стратегических и тактических целей.
Свои опыты и наблюдения Я. описал и издал на собственные средства в виде брошюры «Бескровная победа, или Способ сделать российское воинство неуязвимым в боях» (Арзамас, 1909).
Как многие гениальные изобретения, предложения Я. не встретили поддержки ни со стороны косных руководителей тогдашнего Военного ведомства, ни со стороны технических учреждений и периодической печати. За пределами России мысли Я. оценил только выдающийся военный писатель полковник Гочкис, опубликовавший в 1912 г. статью «Магнитная война» в журнале «The Illustrated London News» (откуда мы заимствуем иллюстрации), где предсказывал, что использование идей Я. в будущей войне может принести победу и таким образом «повлиять на судьбу мира».
Эта статья произвела сильное впечатление на английское общественное мнение. На заседании парламента в 1913 г. консерватором м-ром Бруксом был сделан запрос морскому министру: «Что думает предпринять министр для защиты флота его величества, если Россия или Германия прибегнут к «магнитной войне», используя изобретения м-ра Ящеркина?» — запрос, наделавший в своё время немало шума.
В чем же состояла основа предложений Я.?
Обратимся к труду гениального изобретателя.
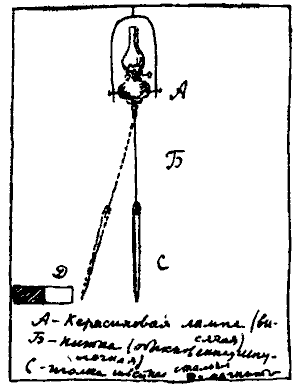 Основной опыт |
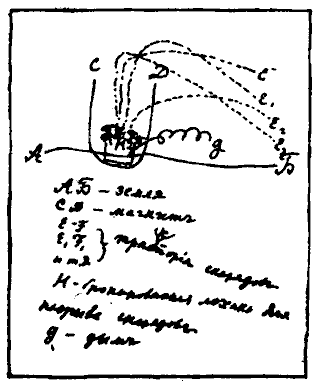 Принципиальная основа изобретения |
«То, что моё изобретение не является простой фантазией, каких много бывает, видно из проделанных мною многочисленных экспрементов (опытов). Один из этих экспрементов (опытов) я опишу сейчас. Вот рисунок этого опыта. К нижней части обыкновенной керосиновой лампы привязана обыкновенная нитка (можно № 40 Морозова или другую). На конце этой нитки за ушко привязана обыкновенная стальная швейная иголка. Если поднять эту иголку набок повыше, всё время натягивая нитку (осторожно, чтобы не опрокинуть лампу), и потом отпустить из рук, то иголка будет качаться взад и вперёд, всё равно как маятник. Теперь нужно взять магнит. Я брал магнит мастерских наглядных пособий Вятского губернского земства. Цена этого магнита 1 р., в полированном футляре из берёзового дерева — 1 р. 20 к. Одна половина его покрашена в красную краску, но это неважно. После первых опытов краску я содрал столярной шкуркой, и магнит всё равно действовал. Потом я его покрасил голландской сажей, и он тоже действовал. Если этот магнит подносить сбоку к той линии, по которой качается нитка, то иголку, когда магнит близко, вдруг притягивает к нему. Силы магнита хватало, чтобы оттащить иголку вбок почти на вершок, особенно когда она качалась уже не очень сильно. Ясно, что, если только взять магнит побольше, то он будет притягивать не только иголку, но и пушечные снаряды. А также и любые другие железные и стальные предметы, например корабли и паровозы. Рельсы он, наверное, не выдернет, потому что они прибиты к шпалам, а шпалы зарыты в землю» («Бескровная война» и т. д., с. 6—7).
Приведённый отрывок и собственноручные чертежи Я. ясно показывают безупречную логичность и обоснованность аргументации нашего изобретателя. К сожалению, не владея в должной мере математическим аппаратом, он не даёт цифровых расчетов габаритов магнита, необходимых для осуществления поставленных им целей.
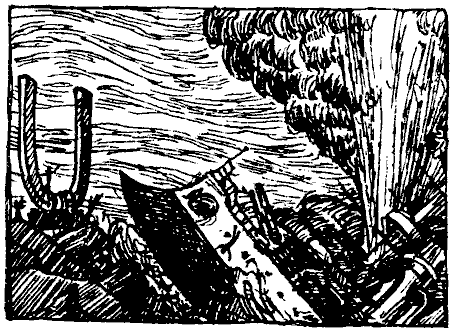 «Даже гигантские плавучие крепости бессильны бороться с магнитом мистера Ящеркина: магнит притягивает неприятельские корабли к берегу, заставляя их разбиваться о скалы». («Illustrated London News», 1912 — № 17) |
Соответственные данные, представленные специальными экспертизами, показали некоторую затруднительность практического разрешения идеи автора. Дело в том, что соотношение массы магнита (МI) и массы притягиваемых им тел (МII) должно быть достаточно велико; числитель в выражении (МI / МII) должен превосходить знаменатель по крайней мере в несколько сот раз.
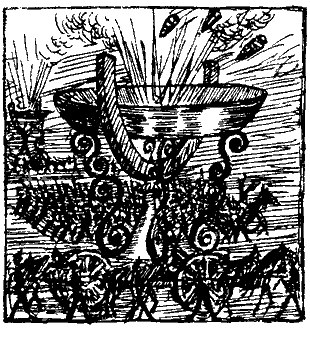 «Наступление пехоты, несмотря ураганный огонь противника, превращается в увеселительную прогулку; неприятельские снаряды обезвреживаются, разрываясь в передвижных бронированных лоханях». (Ibid.) |
 «И тыл противника подвержен на воздействию нового страшного оружия: железнодорожный состав не «сходит», а «взлетает» — с рельсов». (Ibid.) |
Кроме того, сила притяжения магнита, убывающая, согласно законам распределения энергии поля, как известно, пропорционально квадрату радиуса (R2), будет достаточно эффективной лишь в довольно ограниченной сфере. Указанные соображения, однако, отнюдь не снижают ценности основной идеи, так как если вместо естественных магнитов применить электромагниты с большой мощностью питающего их тока (к сожалению, опыты Фарадея, проделанные за много десятилетий до Я., остались последнему неизвестными) и не задаваться чересчур далеко идущими целями, выдвинутыми смелой мыслью нашего автора, то его изобретение становится на вполне реальную почву. Широкое применение мощных электромагнитов в современном внутризаводском транспорте, в сущности, и представляет собой посильную для существующей техники реализацию принципа Я. Справедливость требует, таким образом, восстановления его приоритета и признания его первоизобретателем использования магнитного (соответственно электромагнитного) поля для практических целей. Применение в наше время атомной энергии, создающее небывалые до сих пор возможности, так сказать, концентрации энергии в весьма ограниченном объёме пространства, может быть, сможет указать пути и для осуществления смелой мечты Я. в её буквальном смысле.
Тщетно в течение многих лет Я. пытался пробить стену равнодушия. Жизнь не пощадила гения, дерзко пытавшегося вырваться из своего времени в будущее. Непризнанный и забытый изобретатель ещё сравнительно молодым погиб от порока, столь распространённого среди талантливых людей старой России, — от пьянства.
Во время одного из научных опытов Я. неосторожно дохнул на горящую спичку. Произошёл почти неслышный взрыв. Изобретатель вспыхнул неярким синим пламенем. Только по обручальному кольцу и нательному кресту удалось опознать его труп.
(*) «The Illustrated London News» — «Иллюстрированные лондонские новости» (англ.). — Примеч. ред.
(*) Мы сохраняем орфографию подлинника.
  |