Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы
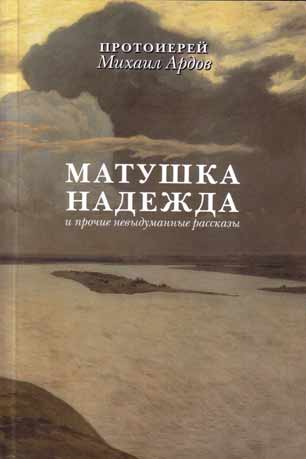 М.: Собрание, 2004. 224 с. М.: Собрание, 2004. 224 с.
Отдельно
окончание 1 части (с. 35-126).
воспоминания о Граббе и вел. княжне Марии Романовой (в кн. 3 часть, с. 210-222).
МАТУШКА НАДЕЖДА
См. Марфо-Мариинская обитель
- Вот он наш Батюшка... Это уж самые последние годы. Можно сказать, перед смертью... Вот они с Матушкой картошку копают в огороде. Тут еще он помоложе... Вот - хороший снимок.Он вообще у нас фотографий не любил, а про эту сказал: "Пусть останется.Тут я похож". У него и на могилке такая... Он нам так сказал: "Здесь у вас маленькая обитель". Эту избушку для Батюшки Матушкина сестра купила, Вера Владимировна. Когда они после второй ссылки вернулись. В тридцать третьем году. Батюшкина Матушка была Ольга Владимировна...Сколько-то минус ему тогда дали, сколько не помню...Им тогда родные в Воронеж советовали, а кто-то еще куда-то... Не помню. Ну, вот, а я как раз тут из Туркестана приехала в Москву. Мама у меня умерла, захотелось на могилке побывать. И вот сюда заехала, в деревню к Батюшке. А он мне строго так говорит "Сестра Зинаида, как ты мне скажешь? Куда мне ехать? В Воронеж или здесь оставаться?" Или еще спрашивает какой-то город... А я: "Почему вы, Батюшка, меня спрашиваете?" - "Нет, - говорит, - ты скажи. Как ты скажешь,так и будет".- "Здесь,-говорю,- Батюшка..." - "Ну, - говорит, - так тут и остановимся..." Вот этот портрет - Матушка наша Великая. Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Это она еще в миру... Красавица была, талия как осиная. Мне еще, помню, лет всего двенадцать было, а родные у меня - дядья - охотники были, егеря... Так вот придут к отцу с матерью и рассказывают. На охоте такой-то князь были графиня такая-то... И вот как-то рассказали они про Великую Княгиню Елизавету Федоровну. Что она такая, что строгая... Так меня тогда эти слова поразили. Я-то, девчонка, и подумала: вот она - настоящий человек...И, дура была, написала я ей письмо. Так и написала: "Я думаю, что Вы настоящий человек..." Заклеила и отослала... На конверте так и написала: Великой Княгине Елизавете Федоровне... Ну, конечно, никакого ответа, ничего... Да и я все позабыла. Училась я тогда в прогимназии Лепешкиной, на Пятницкой улице. Хозяйка была Варвара Лепешкина. Там на домашнюю учительницу кончали. И родилась я, и училась, и работала в Москве. Сорок лет прожила, потом попросили об выезде. Отец у меня работал бухгалтером. Да... И вот как-то журнал такой был - "Искра" или "Искры" - не помню... Раз приносят нам этот журнал домой, и в нем на первой странице Великая Княгиня Елизавета Федоровна. И тут у меня опять все всколыхнулось.Уж она открыла обитель на Большой Ордынке... Поглядела я фотографии, а потом опять все ушло куда-то. Я маму очень любила. Все хотела скорей зарабатывать, да деньги ей отдавать... Вот это фотография - тоже Батюшка, только он молодой совсем. Еще только в священники посвятился. Красивый был Батюшка... А у Батюшкиной Матушки носик был курносенький. Уж старые они тут были, а она все говорила: "Какая же я уродина! Вон у Батюшки носик прямо точеный..." А вот они мои Папа с Мамой... Мама была очень строгая. После гимназии поступила я счетоводом в частную контору Селитринова. На Ильинке. А жили мы за Покровкой, в Гавриковом переулке... Потом меня хозяин сделал бухгалтером, и получала я семьдесят пять рублей. Золотом.. Так и бегала через Покровку на Ильинку. А раз, году уж в девятьсот девятом, после работы побежала я в Замоскворечье. Спрашиваю у городового: "Где тут Марфо-Мариинская обитель?" Он мне показал. Бегу по Ордынке. Собора еще не было, собор в десятом году выстроился... Еще только одна была больничная церковь - Марфы и Марии, маленькая. Вхожу я, а у них всенощная. Все в белом. Великая Княгиня в белом, сестры в белом... Батюшка в голубомоблачении. Ну, думаю, это мне видение. Не помню, как стояла... Видение это мне... Кончилась всенощная, а я никак не приду в себя... Приложилась и добежала домой через Покровку... Бегу и всю дорогу слезами обливаюсь... Дома спрашивают "Где ты была?"
- "Где я была, - говорю, - вы не можете себе представить..."И опять все забыла... Вот фотография мы здесь - сестры. Белые апостольники, платья серые туальденоровые... Одевали, кормили, поили... Одежда зимняя, весенняя... Летние пальто - серые. Осенние - черные... Чулки, все до самых мелочей... До зонтиков... А вот эти, это уже крестовые сестры. У них крест деревянный, и на Кресте - Марфа, Мария, Покров... Это уже - не послушницы. Они уже замуж не выходили. По одной в комнате жили.Там квадратные кивоты светлого дерева. Иконы - Покров обязательно (собор у нас Покровский был), Марфа, Мария... В комнате столик, кресло соломенное - мягкое, с подушкой, гардероб, стульчик, кровать пружинная с волосяным матрацем... Портреты бывали, картины. В келью никто из посторонних входить не имел права, не пускали даже родителей... А для гостей комнаты были... На окнах у всех занавески - белое полотно с розами. Три рубля вроде бы жалованья полагалось - на марки, на письма... А в одиннадцатом году переехала я с отцом, с матерью на Якиманку в дом Толдычина. И все я еще на Ильинке работала, и ничего такого в голове не держу... Замуж тогда собиралась. За вдовца мечтала с двумя детьми,чтоб сирот пожалеть...Раз мне подруга и говорит: "Пойдем на Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель". Как раз под Покров...Все собрались мы, братья, подруга моя... Только я вошла в собор, все у меня воскресло. Едва на ногах устояла. Брат потом дома говорит: "Вы бы посмотрели на Зинаиду, что с ней сделалось..." Ну, тут уж я стала в обитель как следует бегать. Стала к Батюшке проситься на исповедь, причащалась... "Да, - говорит, - нам нужно... Мы сейчас набираем сестер". А про родителей моих не спросил. Я так обрадовалась, скорее к Маме. "Мама, я поступила в обитель!"
- "Что?!" - Мама властная такая была. - Ничего подобного! Этого не будет!.."Вот те раз... А ей, конечно, жалко было. Семьдесят пять рублей я приносила, золотом платили - горсточку получишь. И все до копеечки я ей отдавала... Я опять к Батюшке. "Не пускают меня".
-"Нет, - говорит, - против родительской воли мы не можем..." Ну, я думаю. Великую Княгиню спрошу, саму хозяйку...В Больничной церкви вечером она стояла, народу никого не было.
Кто-то читал правило, сестра какая-то. И вдруг смотрю: над Алтарем иконка маленькая - Богородица Скоропослушница. И от нее луч прямо на Матушку Великую... Я тогда не очень это понимала, в церковь мало ходила... "Ваше Высочество, я хочу к вам поступить, а родители не пускают". Она посмотрела на меня - а я хорошо одета, в шляпке - и говорит: "У нас трудно. Знаете, какая работа, в больнице... Ну, я поговорю еще с Батюшкой..." Обнадежили. А потом опять говорят "Нет, без родителей не можем. Нам старцы запретили принимать без родительского благословения..." И вот семь лет я к ним бегала, семь лет меня не брали... А тут, как я маме сказала, что поступлю, мы тут же с Якиманки переехали подальше от обители. Она подыскала тогда квартиру на Малой Бронной... И я с Малой Бронной пешком на Ордынку. Не могла я у мамы просить на трамвай, она не хотела. Все спят, а я натощак утром в обитель на молитву бегу. Часть обедни отстою и бегу на работу уже на Мясницкую.Там Селитринов новое дело открыл... А жалованье я все целиком, до копейки маме отдавала...Несколько раз к Великой Княгине подходила: "Когда же вы меня возьмете?" - "Ты не умеешь маму просить". Как же еще ее просить, думаю. У нее один ответ:
"Иди, пожалуйста, ты мне не дочь". Семь лет бегала. Уж тут, в деревне, последний самый год перед смертью Батюшка у меня прощения просил: "Ты меня, Зиночка, прощаешь?" - "Что вы, Батюшка?"
- "Да вот мы тебя семь лет не принимали... Ты бы только сказала тогда, что мама тебя не пускает из-за того, что ты много зарабатываешь.Великая Княгиня платила бы за тебя, сколько надо... А так мы не могли тебя принять. Старцы нам запрещали". Был такой у нас старец Алексий из Зосимовой пустыни. Я к нему тогда пришла, а он с кликушами занимался. Думаю, что это он с ними возится...
У меня тут дело важное такое... Ну, потом "Батюшка, я к вам..." Еще ничего не успела сказать, он как взглянет на меня: "Ишь чего захотела - в обитель? Сначала послужи родителям, а потом в обитель!" Я иду на обратном пути, и вот ругаю его, вот ругаю... Что это за старцы такие? Не понимают ничего! Тут у человека горе,а они не понимают... Богородице я тогда молилась... А у нас в доме икона - Казанская Божия Матерь. Я, бывало, к ней стул подставлю: "Что же Ты меня не слышишь, что ли"? Вот дура-то была...
А вот этот снимок - Валентина Сергеевна, наша вторая настоятельница. Как Великую Матушку увезли, так она у нас стала. Ее Патриарх Тихон ставил. Тут она еще крестовой сестрой сфотографировалась...
Верила твердо. Чуть что: "Что ты, душенька? А Марфа и Мария? Марфа и Мария нам помогут..." Это у нее первое слово... Прямо детская вера была: чуть что - Господь, Марфа и Мария... Господь, Марфа и Мария... Великая Матушка молитвенница была, а Валентина Сергеевна для обители трудилась. Та была Мария, а эта - Марфа...
Нас с ней в Туркестан выслали в двадцать шестом году... Пришли, обитель заняли и всем велели убираться. Только что взять личные вещи. Солдаты там стояли - охраняли... Им-то что - им только приказали. Одна сестра свою швейную машинку выносила - проходи, не тронули. А еще одна часы такие огромные, апостольником накрыла и несет. И аккурат когда она мимо солдата шла, часы-то у нее и забили... Да, а нас семнадцать человек сочли за администрацию. Всех крестовых сестер да нас с Фросей... Какая мы с ней администрация?... Только что близкие были. И слушались. Как нас попросят что - так и летали на крыльях любви к обители и к начальству...
Прислали нам такие билеты. Приезжайте на вокзал, с этими билетами бесплатно, отдельный вагон. И отправились мы до Кзыл-Орды, столица Казахстана. Это было как раз на Взыскание Погибших, пятого февраля. Приехали туда - десятого. День Ангела нашей настоятельницы Валентины Сергеевны. Купила она нам плюшек... Мы ведь были тогда самые первые ссыльные, на нас все с удивлением смотрели... Двадцать шестой год. Пошли в НКВД. Приходим туда, нам говорят: "Будете все здесь работать. Нам здесь хорошие работники нужны". А мы и поверили.
На другой день пришли, уже говорят: "Мы вас здесь всех не можем оставить, должны вас отправить в пять городов. Вы, - говорят, - сговоритесь, кто с кем хочет и поедете..." Мы и сговорились. Настоятельница выбрала тогда нас четверых - Фросеньку мою, меня и еще двух сестер...
Опять приходим к ним. "Сговорились?" - "Сговорились". - "Я - с ней". - "Мы - с ней..." - "Так, - говорят. - Вы с ней? Поедете отдельно! И вы - отдельно!..." Так никому и не дали ни с кем.
Тут всех нас и меня с Фросенькой разлучили. Ее - в Туркестан, а меня в Чимкент назначили. "Никаких разговоров! Поменьше говори, а то на верблюдах тебя в степь загоним!" С Валентиной Сергеевной мне потом все-таки разрешили... И вот стали мы разъезжаться в разные стороны - Алма-Ата, Козолинск, Туркестан, Чимкент... Фро- син поезд отходил в четыре дня, мы с ней прощались так ужасно. Я на площадку зашла, плачу. Вдруг смотрю, Валентина Сергеевна такая печальная стоит... "Ты только меня не бросай..." Старенькая она уже была...
И вот поехали мы с ней в Козолинск. Город ужасный. Домики с плоскими крышами, ни деревца, ни кустика никакого...Только один, смотрю, хорошенький домик - с крышей, деревянный. Вот бы, думаю, нам снять... Я пошла туда, вышла какая-то старуха, испугалась нас... Потом выходитстарик,красивый такой... "Пожалуйста, - говорит, - у меня только что жильцы уехали, могу вам сдать".
- "Мы, - говорю, - ссыльные..."
- "А для меня это не имеет значения. Десять рублей в месяц..." У них там икона, диван, столик, полы крашеные...Только устроились, мне Валентина Сергеевна говорит: "Иди в финотдел". А мне боязно...
Ну, иду на другой день. "Ничего, что ссыльные, - говорят, - нам работники такие московские очень нужны. Приходите". Жалованье мне опять - семьдесят пять, только уж не золотом...Устроились мы там замечательно. Когда нас из Москвы-то попросили, старушка одна на вокзале Валентине Сергеевне корзинку сунула. А там - одеяло вязаное, Великая Княгиня ей сама вязала, на шелку, потом матрасик волосяной, белье и занавески, главное, наши - у всех в обители были одинаковые, с большими розами... Ну, это я все приладила... А тут и Валентина Сергеевна моя пошла работать к нам в финотдел. Она математик была, кончила какой-то математический факультет... Ее тогда взяли в налоговый отдел. Так начальник говорит: "Я не напасусь на нее работы". Она за два часа все сосчитает и идет ко мне: "Пойдем домой, душенька". А мне нельзя, я работаю... "Неужели, душенька, нельзя уйти домой?" Но только она недолго проработала. Через месяц начальник говорит: "Не могу я двух ссыльных в отделе держать". Пришлось ей уйти, а я осталась.
И в НКВД так любезно нас приняли. Все смеялись. "У нас, -говорят,-такое доверие к ссыльной, у нее все секретные бумаги на руках". Это - у меня, в финотделе. И каждую неделю мы должны были приходить к ним расписываться. Я им говорю,что Валентина Сергеевна старая, больная. Ну, говорят, пусть раз в месяц приходит.
Раз я прихожу расписываться, а жена этого главного НКВД выходит из квартиры: "Зайдите, у меня горячие пирожки, чаю попьем". Неудобно не пойти... Только зашла я, села - входит начальник. Я испугалась. А он: "Сидите, сидите. Пейте, пожалуйста, кушайте..."
И так хорошо мы жили... Только что Валентина Сергеевна у меня на табуретке сидела... И задумала я ей кресло сделать...И человек нашелся такой, сделал ей кресло. С прямой спинкой, так подлокотники... И в День Ангела я ей поставила...
Она у меня чуть не заплакала. "Ну, вот, - говорит, - опять я - настоятельница". Так и жили мы с ней до двадцать восьмого года.
И тут снится мне Святитель Филипп. На небе. Солнце светит, и он тамстоит. А в Пятницу на Страстной повестка в НКВД. Я прихожу.
"Вы, - говорят, - свободны. За вас мать хлопотала". -"Мне одной?" - "Да, - говорят, - только вас освободили". - "Я никуда от вас не поеду". Они там прямо поразились. "Ты что, праведница?"
- "Нет,- говорю, - не поеду". - "Гляди, она с ума сошла..." Прихожу домой. Даже не хотела говорить Валентине Сергеевне. Она сама спрашивает: "Ну, что там?" - "Да вот, - говорю, - мать за меня, оказывается, хлопотала... Освободили меня". Она так поглядела на меня: "К Фросе теперь поедешь?" - "Нет, - говорю, - я вас не оставлю".
Да... Так и дожили до двадцать девятого года. А тут нам всем прощение вышло. Только минус Москва и область. И мне так же. Не уехала я тогда, и опять вроде мне прибавили. Валентина Сергеевна говорит: "Сейчас же пиши Фросе, пусть все готовятся ехать в Ростов. К Святителю Дмитрию, к Святителю Дмитрию". Фрося нам отвечает: "Дорогая Валентина Сергеевна, не ездите в Россию. Здесь у нас в Туркестане так хорошо, приезжайте к нам..." А Валентина Сергеевна ни в какую! "Душенька, она с ума сошла! Не ехать в Россию! Сейчас же пиши, чтобы все собирались!.."Так и поехали мы в Россию, в Ростов... Приехали - Валентина Сергеевна,
Катя, Фрося и я... Тут, в Ростове, много сестер было, они все потом в тюрьму пошли. Нашла я хозяйку дома, она нам сдала: платить пятнадцать, кажется, рублей. Зала метров двадцать и маленькая комнатка. Она торговала сама, в Ярославле с лотком ходила...И недолго мы тут пожили.
Помню, праздник был, под Успение... Поехали с Валентиной Сергеевной в церковь, а Фрося не пошла. Приходим от всенощной, а она лежит у нас с мигренями.
"Приходил, - говорит, - человек из НКВД, свой. Что вы, говорит, наделали? Зачем вы все сюда приехали? На вас теперь опять дело завели и опять вас всех сошлют, только уж теперь всех врозь. Немедленно уезжайте!" Так мы все и уехали от Святителя Дмитрия. А которые не уехали, все в тюрьму пошли...
Фрося сначала поехала одна в Туркестан, а уж потом мы с Валентиной Сергеевной к ней...
Вот она - моя Фросенька... Тут с цветами сфотографировалась. Она цветы так любила, так любила... Все, бывало, их целует. Ей наш зосимовский старец Алексий, как постригал ее в рясофор, дал имя - Любовь. И благословил тогда, чтобы так это имя и в монашестве осталось. Монахиня Любовь...
Бывало, когда к нам в обитель сестры шли, он, старец Алексий, всегда говорил: "Идите в Марфо-Мариинскую. Там одна Фрося чего стоит..." В голодное время всю нашу обитель спасла. Пошла в деревню Семеновку, это за Калужской заставой, познакомилась там с крестьянами. Ну а потом они нам и помогли в революцию... А мы детей у них крестили...Я и сейчас, в Москве когда, у крестника, у семеновского живу...
Девочки их, семеновские, в обители воспитывались. Одеждой им помогали, а они нам хлебом, картошкой... Церкви у них там не было, так им церковь построили по благословению патриарха Тихона...
Вот фотография, как ее закладывают... Вот Батюшка наш - в митре, в облачении... А в обитель Фросю Преподобный Онуфрий привел. Она жила в Харькове, сама харьковская... И вот приснился ей сон - Преподобный Онуфрий... Вот его икона, с длинной бородой... Явился он ей во сне и провел ее по всем местам, и где грешники в огне мучаются, и в снегу замерзшие мучаются, потом показал, как праведники ликуют... И благословил ее преподобный Онуфрий идти в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель... А она тогда ничего еще не знала. Проснулась и стала всех в Харькове спрашивать, есть ли такая Марфо-Мариинская обитель в Москве?
"Есть", - говорят.Так она в обители и появилась... Фросенька моя... Он и потом ей много являлся во сне, преподобный Онуфрий. Посты ей назначал...
Один раз она ровно тридцать семь суток не ела, не пила ни капельки... А как работала! Из Семеновки по два мешка картошки - восемь верст - несла, всю обитель кормила... А мне Батюшка поститься не благословлял. Я его прошу, а он мне: "Твой пост - ешь досыта!" Слабой меня считал... А я вот, видишь, всех и пережила....Ты уж меня прости, старуху, я так бестолково говорю... У меня вечно одно за другое цепляется... Да...
И вот поехали мы тогда обратно в Туркестан. Сняли у хозяйки одной, в каменном доме - две комнаты... Там к ссыльным тогда еще очень хорошо относились - узбеки, киргизы, бухарские евреи. И квартиры нам давали, и все... Церкви там в городе две были - в центре Святителя Николая, и еще два часа ходьбы - Покрова... Хорошенькая такая церковь, маленькая... Там все ссыльных хоронили. Одного киевского архимандрита, помню, рядом с Алтарем положили...
Я поступила тогда в продснаб. Рублей шестьдесят-семьдесят - неплохо получала. Счетоводом была. Люди там -замечательные. Прижились мы там...Двух девочек я грамоте учила. Потом одну на почту устроила, а другую - себе в помощники... А Фрося моя - там палатку открыли мороженым торговать - вот она и пошла. Потом одеяла стали шить.Фрося, прямо как художник, такие рисунки, такие узоры выдумывала... Заказы так и полетели...Словом, хорошо жили...
Фрося вечером придет, я вернусь... Валентина Сергеевна спрашивает: "Сколько сегодня продала? Сколько заработали?" В церковь ходили в апостольниках, как в обители. На клиросе пели... У Фроси голос был изумительный, Апостола она читала бесподобно... А потом Валентина Сергеевна наша бедненькая слегла. Очень мучилась, мучил ее "враг" перед смертью. Мы дежурили по очереди... Ночи не спали. Вот сидим раз около нее, а она в полубессознательном состоянии. Потом повернулась: "Фрося, Фрося, погляди - преподобный Серафим...Тянет меня туда... А там так высоко, высоко..."
А на другое утро спрашивает: "Что у нас сегодня - не суббота? Будет всенощная?" - "Зачем вам суббота? - говорим. - Зачем вам всенощная?" - "Мне надо..." И теряет сознание. А это было в июле,как раз восемнадцатого числа... Как раз под преподобного Серафима...
И вот только всенощная кончилась, она у нас и скончалась... Священник только пришел. Тоже, конечно, все ссыльные священники...
Какое переживание было ужасное... Вынесли мы ее в церковь... Жара, скорей, скорей... И похороны такие были - Боже мой. Хоронили возле той церкви Покрова, рядом с архимандритом этим...Народу было... Это, значит, тридцать первый год... А к нам туда все шлют и шлют, все едут ссыльные... А Фрося моя всех устраивала их и на квартиру, и на работу. В НКВД так и говорили им, ссыльным:
"Идите в трудовую контору Журило". Это Фросина фамилия - Журило.
Она всех устраивала, всем все доставала... Раз сижу я в своем продснабе на работе. "Иди, - говорят, - тебя там поп какой-то спрашивает". Я выхожу, думаю, как это поп?.. Батюшки мои! Архиерей! Высокий такой архиепископ Амвросий Виленский. Его выслали и с ним монахинь шестьдесят человек... Отпросилась я, идем домой... А монахини у нас в саду сидят. Ну, тут моя Фрося развернулась... Соседи - кто муку, кто крупу несет... Суп мы им наварили - шутка ли обедом накормить шестьдесят человек... А Владыку мы определили в комнату Валентины Сергеевны. Ей как раз сорок дней было.
И стал он нам рассказывать. Я плачу, смотрю, и Фрося моя плачет и платком слезы вытирает. А она увидела, что я реву, разорвала платок пополам и дает мне. А Владыка поглядел и говорит: "Сколько лет живу да свете, первый раз вижу такой раздел имущества". А на другой день услали его в Сузак. Сто двадцать километров на верблюдах, по самой жаре... Фрося ему, правда, тележку раздобыла. Корзинку мы ему с собой дали, зонт от солнца и письмо в Сузак к врачу одному, к нашему знакомому... Собрали мы его, не знаю, уж как он, бедняга, ехал... А только прислал нам врач наш письмо, что Владыка через два дня в Сузаке умер. Не выдержал... Царствие ему Небесное... А на этом снимке тоже наша Матушка Великая. Это она тут в черном апостольнике сфотографировалась и тоже - настоятельский крест. Она власяницу носила и вериги, да только мы никто не знали, после уж стало известно.
Она даже картошку в подвале перебирать ходила. Раз сестры заспорили, не хотят никто туда идти. Она ничего не сказала, только оделась и пошла сама... Тут уж все за ней побежали... А то еще раз пошли мы в собор, там в подвале места нам были приготовлены,чтобы сестер хоронить... А Матушка Великая тут нам и говорит: "А я хочу,чтобы меня положили в Святой Земле". Сестры тут удивились:
"Как это?.. А мы тут как же?" А она больше ничего не сказала...
А последний раз я ее видела в восемнадцатом году, я еще в обители не была, все бегала. После службы. В соборе уже никого не было. Она меня подозвала: "Подойди ко мне. Как жаль, что ты не можешь упросить маму... Но мы с Батюшкой поговорили и решили тебе дать послушание, как нашей сестре. Пока твое послушание - послужи родителям. А в обители ты будешь. Будешь! Ты веришь мне?"-
"Ну, ладно, - тогда думаю, - что мне с вами делать?" А на тот год сестры наши собрались ехать в Зосимову Пустынь, к старцу Алексию, и меняс собой зовут. Ну, думаю, лучше мне не ехать.
Он, говорят, прозорливый, сразу узнает, как я его ругала тогда, когда первый-то раз от него шла... Но все-таки они меня уговорили. И вот стоим мы перед обедней, ждем его, как он в церковь пойдет, чтобы взять у него благословение... А была у нас сестра Татьяна, княжна Голицына, высокая такая, большая... Вот я за нее и спряталась... Не заметит, думаю... И вот он идет... Подходит, сразу рукой ее отстраняет, увидел меня и говорит: "А...Зинушка пришла..." А на другой день принял он нас... И меня принял.
Села я у него, и стал он мне все мои грехи говорить - от самой юности, каких я и не помнила... И вот сижу я и плачу... В жизни так не плакала - слезы прямо по всему лицу, все лицо омывают... А он мне своей бородой их вытирает и говорит: "Как бы я хотел, чтобы ты сейчас умерла".
- "Что вы, - говорю, - батюшка, я не хочу умирать. Я в обители хочу потрудиться". - "Ну, в обители ты будешь, сама не заметишь, как там очутишься..." А ведь он это всю мою жизнь тогда предвидел... Да... А тут как раз отпуск мне - две недели. С восьмого июля, в Казанскую как раз. Я маме говорю: "Хочу провести отпуск в обители. Я уже с Фросей договорилась, с Батюшкой, с Валентиной Сергеевной".
- "Как?! Это что такое? - говорит. - Какой тебе там отдых будет?" Я говорю: "Дай мне хоть в этом волю"...
Нет, это уж был девятнадцатый год, Великой Матушки уже не было... Прихожу я в обитель к Батюшке: "Вот я в отпуск к вам".
- "Правильно, - говорит, - давно бы так..."Ну,а кончился мой отпуск под преподобного Серафима. Иду к Батюшке в кабинет, он: "Ну, отдохнула, теперь, значит, на работу пойдешь?"
А я говорю: "Не пойду! Я теперь не пойду!" А Батюшка так удивленно говорит: "Как же так?" - "Как хотите, сяду вот на лестнице и не пойду никуда. Не пойду домой..." Он прямо удивился очень:
"Да, - говорит, - давно бы тебе пора к нам... Все-таки сходи еще раз к маме, попроси благословения..."
Я побежала пешком с Ордынки на Тверскую... Бежала, такая жара была ужасная... А сестра младшая меня встречает, девятнадцать лет, замужняя уже была...
"Соня, я в обитель поступаю!" - "Ну и что?" - "Я вот маме боюсь сказать..." - "А ты скажи и все!.."
Я села за стол... Мама сидит у самовара, чай разливает. Чувствую, она неспокойная. Вообще-то она со мной не разговаривала почти. Я прямо и бахнула: "Мама, я поступаю в обитель!"
Как она вскочит, всплеснула руками: "Так я и знала! Доканали! Иди на все четыре стороны! Ты мне не дочь!" А я и не знаю, что ей сказать. Я говорю: "Мама, все-таки надо меня пожалеть. Сколько лет я вам служу и никому... Братья все женились, сестра вышла замуж. И никто тебе ничего не говорил, разрешения не спрашивали, сами устроились и все. А мне уж пора подумать о своем будущем. Вы же знаете, замуж я не пойду...А если бы я и пошла, разве бы я вам так могла служить, как буду вам служить в обители?.."
- "Я тебе сказала: ничего мне от тебя не нужно, иди на все четыре стороны. Я тебя не знаю..."
Вдруг папа приходит. Я к нему тогда: "Папа, ну когда же вы меня отпустите? Я вишу между небом и землей: ни у вас я, ни там я..." Папа говорит:"Мать, надо отпустить..." Только он это сказал, схватила я икону - Скоропослушницу - встала на колени перед мамой: "Благословляй!" Заставила ее в руки икону взять и ее руками себя крещу... А папу и забыла... И кубарем с лестницы, так и убежала. Только икону под мышку...
Прибежала к Батюшке красная как рак. Целый час я бежала по Садовой улице. "Батюшка, благословила!" (Уж не сказала ему, как она меня благословляла.)
"Ну, слава Богу,теперь ты - наша сестра..." Так и поступила... А вот этот снимок - патриарх Тихон. Он нашу обитель любил. И Батюшку нашего с Батюшкиной Матушкой Ольгой в монахи постригал, так что уж Батюшка стал архимандрит Сергий, а Батюшкина Матушка - монахиня Елизавета...
Любил Патриарх нашу обитель. Бывал часто. Встречали его... Девочки наши воспитанницы в ряд выстраивались и розы ему под ноги бросали. У нас двадцать две девочки круглые сироты воспитывались и среднее образование получали... Одинокие старухи жили, за ними сестры ухаживали. Мальчик один, помню,был расслабленный, калеки, бедные всякие... Великая Матушка снимала еще специальные дома - один для чахоточных женщин, а другой для фабричных девушек. Обеды были в обители бесплатные. Каждый день пятьсот обедов для бедных. Больница на тридцать кроватей тоже бесплатная. Амбулатория, самые известные профессора принимали...
И все сами сестры обслуживали, и на кухне, и всюду. И аптека была, давались бесплатные лекарства. Сестры ходили по домам на окраины города, где подвалы. Искали бедных. Кому что нужно. У одних, например, отец безработный -работу находили. У других мать шить может, а машины нет. Машину покупали. Одежду раздавали, детям обувь. Великая Княгиня переодевалась и даже на Хитров рынок ходила, оттуда людей вытаскивать... А к Рождеству у нас устраивали в амбулатории елку громадную для бедных детей. На елке игрушки, сласти; а главное - теплая одежда, сестры сами шили. И валенки для девочек и мальчиков. А последнее дело Великой Матушки,уж она его не кончила, начала строить пятиэтажный дом кирпичный. Для бедных студентов, чтобы все для них общее. И все бы это свои бы сестры обслуживали... А сестер у нас принимали всех званий и состояний: княжны у нас были Оболенская, Голицына - и самые деревенские. И всем вначале одинаковое послушание давалось. Княжна ли ты, графиня или самые крестьянки полевые...
Это уж потом, по уму-разуму, кто на что способен. А вначале хоть ты княжна, а мой пол, мой посуду. Это Батюшка назначал. Он у нас был духовник и настоятель... Великая Княгиня тоже всех принимала сестер. К ней все идут жаловаться. К ней с такими делами, скоторыми скорее идти к матери, чем к отцу. Она как мать была, а Батюшка как отец... А это - белый-то, клобук - митрополит Елевферий. После двадцать третьего года, как нашего Батюшку в первый раз сослали, он у нас в обители служил. Тогда был отец Вениамин.
А потом видишь,архиереем стал, был Ленинградский Владыка. Санкт-Петербургский... А после войны мы с Фросей тетку его навещали, совсем уж старенькая она была. Плачет горькими слезами:
"Фросенька, Веничку-то моего как обидели... Назвали-то как - Елиферь какой-то..."
Да... А в Туркестане мы с Фросей хорошо жили. До тридцать восьмого года. А тут приходит моя Фрося с базара и приносит открытку, а на ней так - домик и дорога. Показывает мне и говорит: "Поедем-ка мы с тобой в Москву. У Батюшки побываем..." А Батюшка наш после второй ссылки опять тут, в деревне был... Ну, сели и поехали. И у Батюшки тут побывали... А только присылают нам из Туркестана письмо, что арестовали там Надежду Эммануиловну, нашу сестру (она княжна была) и Агафью Александровну, старосту церковную... А церкви в это время уже обе закрыты были... И вот Агафья Александровна ездила все хлопотала, чтоб хоть одну на весь город открыть. Открыто хлопотала. И когда мы уехали в Москву, их забрали и обеих расстреляли...
Шофер НКВД знакомый был, он потом рассказывал. Княжна очень кричала, ей тряпкой заткнули рот. Так она, говорит, наверное, задохнулась. А Агафья Александровна ехала - только молилась. Ее тоже поставили, она молча встала... Они выстрелили, она упала... Стали ее землей засыпать. А она кричит: "Я жива! Жива!" Так ее и засыпали... Мученица великая, Царствие ей Небесное... Только за церковь хлопотала.И у нас с Фросей на квартире был обыск, так что нам написали, чтобы мы пока не ехали. Пока это все не уляжется...
И вот приехали мы сюда, к Батюшке. Смотрим, старенький уже такой старичок в синей курточке... А сюда не позволяли к нему ездить власти. Чтобы никакого общения с ним не было. И церковь тут уж не служила, она в тридцать третьем году кончилась. Он тут сидел - ни шагу, никуда...Так только в магазин ходил... Да... А в Москве у моего брата нас не прописали. Сказали: "Мы непрописываем сейчас никого".
Туда мы сунулись, сюда... Фрося говорит "Поедем в Харьков". Там у ней много родственников было - племянников, племянниц, что-то такое семьдесят человек. Вот мы поехали туда. Нас в Москве мои родные снабдили. Громадный узел дали: там дадите своим, что же вы так приедете... Шали, платки, отрезы.... Приняли нас хорошо. Там у одних племянников, там у других. А мы, по глупости, рассказали, отчего нам в Туркестан нельзя ехать.И вотвсе стали бояться нас прописывать. А там ловили которые без прописки. И на машинах отправляли на какие-то работы.
Потом предстояло время выборов. И перед выборами такое волнение - всюду искали непрописанных... Прямо шкафы открывали. А тут мы уже жили у одной Фросиной племянницы. Молодая вдова, племянница. Хорошая такая женщина, простая... Домик собственный. И Фросе снится преподобный Онуфрий и говорит ей: "Какая ты малодушная. Ничего не бойся!"
И вот Настенька, эта племянница, говорит: "Пойду последний раз попрошу, чтобы начальник вас прописал". А Фрося дала ей с собой иконку преподобного Онуфрия. Приходит она в милицию, а там прям плач стоит - никого не прописывает.Он всех гонит. Орет на многих. Ну, тут Настенькина очередь доходит, а уж она ни жива ни мертва... Вдруг он улыбнулся: "Ты, - говорит, - что так волнуешься?"
- "А вот, - говорит, - ко мне тетя изТуркестана приехала, боюсь, не пропишете". И прописал! На две недели или на месяц. И мы спокойно восседали в зале выборов. И даже выбирали кого-то...
Кончились наши две недели, и поехали мы опять в Москву. И опять без прописки мыкались... А тут приснился мне наш Батюшка. Будто я стою на лесенке, а там наверху икона Божией Матери, а он мне говорит: "Молись, молись... Это - Одигитрия, Она все дела устраивает..." И вот одна знакомая старушка профессорша Боборыкова говорит: "Около нашей дачи школа новая строится. Поезжайте туда, живите у нас на даче. Может быть, на работу в школу вас возьмут и пропишут". Поехали мы туда, поговорили с директором. "Давайте, - говорит, - давайте! Нам очень нужны работники! И счетный нужен, и технический. По хозяйственным делам человек". И прописал он нас постоянно. А потом в Тайнинку его перевели, и мы с ним туда. Комнату нам дал большую, и жили мы расчудесно. Всю войну там прожили. Только бомбили там ужасно. Там вагонный завод со школой рядом, все в него метили. Но так и не попали. А как бомбежка, мы с Фросей сидим в коридоре и молимся. И все учителя к нам жмутся.Тут все за Бога взялись... Директор очень Фросю ценил. Во всем с ней советовался и в какую краску классы красить. Всюду ее с собой возил. Была она у него правая рука... Четыре года нас в отпуск не отпускал...
Так там мы и жили до сорок шестого года вместе... А вот тут, в рамке, это - наша обитель. Какая она была... Ворота, тут куполок... Видишь, под ним икона... А там дальше - собор. Его в десятом году освящал митрополит Трифон... А жили вот в этих, в соседних домах. Их Великая Княгиня в восьмом году, когда они с Батюшкой обитель открывали, купила у одной старушки. Так все пять домов. Сначала у них одна всего с Батюшкой сестра была, Батюшкина какая-то сотрудница, а потом понемножку стали набирать сестер. К восемнадцатому году уже нас сто пять было...
Тут в соборе беседы были духовные, митрополиты, архиереи участвовали... Ставили стулья в соборе, по лавкам народ и сестры... После вечерни воскресной... И тут проповеди читались, объяснения молитв... Такая у нас была духовная жизнь, это в честь Марии. А больница и все прочее - это в честь Марфы... А здесь Батюшка сфотографировался на своей квартире обительской. В скуфье вот на этом самом кресле сидит. Вот как-то уцелело кресло его и еще один вот этот молочничек. ММОМ - Марфо-Мариинская обитель милосердия... У нас вся такая посуда была... А кресло это так тут у него и стояло у окна. Сидит он на нем, бывало, старенький, а скуфья упадет и в ногах где-нибудь лежит. "Батюшка, - скажешь, - скуфья упала".
- "Ну, вот, - скажет, - хоть скуфья смиряется, коли я не смиряюсь...
"А это - церковь здешняя деревенская, какая она была. Сейчас-то вон погляди в окно, теперь что осталось - уголок один. Вон там в нише-то, ты, наверно, разглядишь, я-то уж не вижу, там икона еще - Деисус... Как ее не выбили? Это чудо. Как тут престольный праздник - на Покрова и на девятую пятницу, так ребята пьяные начинают с утра в нее кирпичи швырять. А выбить не могут. А за ними и мальчишки маленькие... Только она пока не поддается...И так вот два раза в год тут празднуют. А ведь она - красавица была, погляди-ка.По проекту Казакова. До тридцать третьего года тут служили. Только уж тогда Батюшке ходить в нее запретили...Говорят, дескать, вы приходите, благословляете всех. Чтобыэтого не было. Народ вас тут встречает, вы опасный человек... Он только что ходил по будням, лишь бы причаститься и помолиться. Чтобы никто его не видел.
А народ к нему ходил всеравно.У кого корова телится, у кого - что. Почитали его. Вот и на могилу к нему до сих пор все идут и идут. Уж мы и не знаем, кто, а все идут. А тогда ему НКВД тут и шагу ступить не давали... Они ведь, было дело, и меня вербовали. Еще вТайнинке, в школе ко мне явились. Раз приходит ко мне директор школы и говорит: "Вам надо зайти в Красный уголок". Я удивилась, иду. Там сидят двое. Иван Тимофеевич и Николай Александрович. "У вас фамилия, - спрашивают, - немецкая?"- "Наверное, - говорю, - немецкая. Только у меня вся родня русская. И бабушка была русская. Не знаю, почему такая фамилия".
- "Ну,- говорят, - как вы здесь живете? Может быть, вам трудно? Мы могли бы вам комнату в Москве дать. Картошкой вас обеспечим. А то ведь сейчас голодно".
- "Спасибо, - говорю, - у нас все есть. Живем очень хорошо.Всем довольны".
- "А то, - говорят, - вы для нас самый подходящий работник..."
- "Нет, - говорю, - я и тут на хорошей работе". - "Ну, - говорят, - мы вам еще будем звонить". И позвонил мне этот, Иван Тимофеевич. Назначил мне свидание в метро "Дзержинская". Встретились мы с ним, и ведет он меня прямо на Лубянку. "Куда вы меня ведете?"
- "А вы, - говорит, - не бойтесь". Входим в парадное. Там у них ковры. Зал, стол во всю длину, стулья. Роскошь - зеркала, красивая обстановка. И виден ряд комнат. И там слышу крик. Кричит кто-то на кого-то. Ну, думаю, сейчас мне тоже будет...И у меня тут со страху сделалось расстройство желудка...
Ну, а потом открывается дверь, и выходит Николай Александрович, этот - в военной форме. Приглашает в комнату. Там кровать такая аккуратненькая. Сели. "Вы знаете что-нибудь о Марфо-Мариинской обители?"
-"Не только знаю, я там жила". - "Что же вы нам об этом не сказали?" - "А вы не спрашивали". - "Вот вы и напишите нам, что знаете об обители, о Батюшке, о Великой Княгине".
- "Это было такое дело, так людям помогали, - говорю. - Жаль теперь нет..."
- "Мы сами знаем". - "Ну, а знаете, так чего же вам писать?"
-"А вы все-таки напишите..." А потом стали меня таскать, стали назначать дни. "Вот вы работаете в школе, последите за учителями, что они говорят".
- "Что я - шпионка?" Обиделись: "Что это значит - шпионка?!" А потом он, главный -то, уехал куда-то,который меня допрашивал. И он говорит: "Будет у вас Иван Тимофеевич временно".
Один раз назначил мне Иван Тимофеевич свидание в Александровском саду. Сели на лавочку. "Мы вас, -говорит, - еще не спрашивали про деревню Семеновку. Какое у вас знакомство с семеновскими?" Ну, я и говорю: "Они наши благодети были.Близкие нашей обители..." А он: "Почему вы все молчите? Все из вас надо выжимать..." Ну, а потом я уже уехала сюда, к Батюшке. А они долго в школе интересовались, куда я делась...
А вот это фотография - Великая Княгиня. Тут уже она вдовой. Это Батюшке был подарок: "Елизавета. Память совместных трудов. 1904/5".
Она ведь была принцесса Гессенская, внучка королевы Виктории... А когда еще совсем молоденькой девочкой была, там у себя в Германии, с детства она все стремилась помогать бедным. Ее прапрабабушка была тоже Елизавета совершено необыкновенная. Она нищих любила, чудеса творила. А наша Великая Матушка очень много слышала об этой прабабушке, и вот с детства она тоже хотела служить бедным, главное, больным. А тут она девушкой еще была, и во дворце у них там мальчик, брат ее маленький, из окна выпал и разбился на смерть. Так она первая подбежала и на руках его окровавленного несла... И вот уж тут она окончательно себе обет дала не выходить замуж, а помогать бедным... А Государь наш был друг ее отцу, Федору. И вот говорит он своему брату Сергею Александровичу: "Поезжай, сватай у герцога Федора дочь Елизавету". А СергейАлександровичтоже уже решил не жениться, но он не имел права отказаться от воли Государя. Поехал он туда. Он приехали поговорилс отцом. А герцог ему говорит: "Это я не могу решать, поговорите с ней самой". И вот они решили, Сергей Александрович с Елизаветой, чтобы не обидеть Государя и не разбить их дружбу с Императором всероссийским, и она, жалея отца, согласились на то, что они будут муж и жена только для дома Романовых и для народа... А так будут хранить жизнь девственную.
Она приехала сюда, и брак этот был совершен... Теперь они поселились во дворце в Кремле... А он был московский губернатор назначен. Тогда существовало это подпольное, у которого было решение убить Сергея Александровича. Его почему-то не любили... Или уже начиналось это, чтобы уничтожить весь дом Романовых? А Великая Княгиня получала такие письма, чтобы она с ним не ездила... Потому что ее убивать не хотят, она делала много добра для народа. А она все время нарочно с ним ездила, оберегала его. Ну, в один прекрасный день - как раз они должны были куда-то поехать в коляске, две лошади, кучер их постоянный - и уже сели в коляску... Вдруг она говорит: "Ах, я забыла что-то..." Платочек там или еще какую-то мелочь... И побежала. И в это время случилось... Был убит и кучер,илошади. Она только кусочки подбирала... И палец с обручальным кольцом нашла. Потом ходила к этому, который взрывал-то, в тюрьму. Говорит: "Зачем вы это сделали? Убили человека..." А он ей ответил: "Это не мое дело. Это мне приказали". Она тогда написала Николаю, просила простить. А Государь ответил ей,что помилование никогда не дается убийцам, кто убил из дома Романовых, и он ничего не может сделать...
Его повесили, потом или там - не знаю. И тут уж она сразу решила, что нужно начать какое-то дело... Вот поехала она в Орел. А она была шеф Черниговского полка, который-там стоял, в Орле. А Батюшка наш был военным священником этого полка. И он уже был священник знаменитый, он там особенно отличился. Родился-то он в Воронеже, в Воронежской губернии в семье сельского священника. Потом, кажется, на врача учился, а потом сразу повернул на священника. И вот он уже был в Орле, как-то во сне ему явился Святитель Митрофаний и ангел.
Святитель говорит ему: "Стой и жди. Сейчас, придет к тебеБожия Матерь". Он, конечно, на колени, и явилась ему Богородица и говорит: "Ты должен выстроить церковь во имя Покрова..." И все ему подробно объяснила, какое устройство должно быть, где какие иконы...И вот он сделал все, как ему Божия Матерь приказала. Денег-то у него не было, не хватало средств. Но он все сам-один собрал... И чудеса там тоже были. Там женщина в Орле жила, у которой кирпичный завод. И вот раз снится этой хозяйке сон, будто приходит к ней Прекрасная Женщина и говорит: "Как тебе не стыдно. Тут церковь строят, кирпича им не хватает... А ты каждый день два раза мимо ездишь и не догадываешься дать кирпич...Не видишь,что у меня нет кирпича?"
- "А кто вы?" - спрашивает.
"А я, - говорит, - Хозяйка этого Дома..." Наутро она скорей бежит к Батюшке: "Сколько вам надо кирпича? Берите!.. А я-то по два раза в день мимо ездила и не соображу, что кирпича у вас нет..." И вот построил он церковь и стал служить, и столько всего у них было. И облачения неизвестно откуда взялись, шестьдесят облачений было. Я спрашиваю его: "Что вам, Батюшка, жертвовали?" - "Не знаю", - говорит. А при церкви он библиотеку устроил, школу. В этой школе законоучителем стал. Сейчас храм, говорят, давно сломан, а школа так и стоит... Он вот и в Орле уже такие дела делал, обительские... А потом Великая Княгиня попросила его устав написать. В каком виде это будет обитель. Он и написал ей. Она тогда говорит: "Вы должны там быть настоятелем". А он не хотел из Орла, из своего храма уезжать. Очень любили его в Орле. Почитали. Вот и сейчас сюда еще из Орла его дети духовные приезжают... И вот было. Только он отказался ехать в Москву, обитель строить, у него страшно рука распухла. Врачи говорят: "Это что-то очень серьезное". Чуть не отнимать руку. Он тогда думает: "Может, мне это наказание?.." И согласился. Сейчас же рука прошла. Он опять отказался, опять распухла... И так до трех раз. Тут уж ничего не поделаешь...
И вот устроили они с Великой Матушкой обитель такую, в которой можно было бы делать все виды добра, милосердия. А особенно больным помогать... Мы ведь там не монахини были, сестры милосердия главным образом. В монастырях вся жизнь внутри сосредоточивается, а у нас было служение миру.Это уж потом монашество приняли. Фрося приняла монашество тайное - наше тайное считается - по благословению старца Алексия в девятьсот пятом году... Это - в рясофор. А меня тогда не постригли. И уж в сорок седьмом году, за год до своей смерти,выходит Батюшка отсюда из комнаты. Видно, молился. "Скорей, скорей, - говорит,- я должен вас постричь. Готовьтесь..."Один день меня в рясофор, а потом в мантию вместе с Фросей. Фросю-то Любовью еще старец нарек... "А тебя, - Батюшка спрашивает, - как назовем?" А Фросе преподобный Онуфрий сказал во сне: "Надежда". Так и стала я - монахиня Надежда...
А после, когда уж постриг, я в форме монашеской сидела за этим вот столом, Батюшка и говорит: "Ка кэто ты так говорила обеты? Их надо твердо говорить, а ты мямлила..."
Вот за этим самым столом. Батюшка, бывало, как что поставит, так унего стоит годы - не меняется... И вот прислал он тогда после войны уже письмо. Не нам с Фросей, а своим родственникам, своей Матушки родственникам... у Матушки Батюшкиной случился паралич, а у него - жаба, и вот они вдвоем в этой избушке. Мы как узнали, Фрося загорячилась: "Бросай работу и сейчас же поезжай к Батюшке!" И сама отпросилась на день в школе. А мы у них только еще совсем недавно были - на имянины, двадцать пятое сентября. А тут - пятое октября. Батюшка сидит на скамеечке около дома. Задыхается, бедненький, у него приступ жабы. И вдруг мы идем. "Что такое? Что это вы приехали? Что это значит?"
- "А мы, - говорим, - прочли письмо". Фрося говорит: "Я к вам Зину определяю, пусть вам поможет". - "Что ты, Фросенька... Она сама больная, а мы такие тяжелые..."
- "Ну, пока. Батюшка, позволите. Дверь вам буду открывать... (А к нему народ целый день - все идут и идут, а он всебежит, дверь открывает.) Матушке помогу, сготовлю... А обратно я не поеду, если не выгоните. А так прошу благословения мне тут пожить..."
- "Но я так боюсь, ты ведь тоже больная... И Фрося там одна..."
- "Нет, - говорю, - теперь вы у нас тут один, я должна вам тут послужить..." И вот Фрося уехала, а я осталась.
Сначала ничего не знала, в деревне ведь никогда не жила. Как печки топить. Батюшка говорит "Ты и самовар поставить не сумеешь, в трубу воду нальешь..." И так осталась я тут. Прожила недели две и привыкла. Уборку произвела у них тут, это я любительница. И к Батюшкиной Матушке яуже привыкла. Она лежачая больная была. Надо ее умыть, посадить, приготовить ей еду, завтрак дать. Только чашечку кофею с молоком и кусочек хлеба маленький с маслом, яичко... И все. Больше она целый день ничего не ест. А в постный день вообще есть не станет.Только, может, хлеба кусочек и чашку чаю без молока...
И вот говорит Батюшка Матушке: "Олюшка, как хорошо нам с Зиной..." Вот так вот стояла его кушетка, а я на печке спала... И вот утром строго он мне так говорит:"Сестра Зинаида, пойдите сюда..." Я испугалась, сейчас гнать будет. А он мне говорит "Здесь у нас маленькая Марфо-Мариинская обитель. Я - старый настоятель... Матушка моя -больная монахиня. Можешь ты нам послужить?" А я: "Батюшка, как благословите. Если вы меня называете сестрой, я буду рада вам послужить. Я себя считаю недостойной..."
-"Ну, тогда, - говорит, - ты здесь останешься до смерти. Только вот что я тебя с Фросей разлучил... Ну, ничего, и Фрося здесь будет..." Тут я и осталась.
Бывало, Матушку вымою. А он сам моется. Посадит меня сюда к окну: "Ты сиди тут и смотри в окно, не поворачивайся. Нельзя..." А Матушка с постели: "Можно, можно! Скорей можно!.." Это чтоб он оделся скорее, не простудился. А потом чай ему приготовлю, воду уберу.И он у меня чай пьет после бани. И так это хорошо мы зажили, то есть мне особенно хорошо... Фрося приезжала к нам часто. Крупы всегда привезет, сахару и всего - от семеновских, да и так. А я себе на печке обклеила, иконы, устроила себе уголок...
Батюшка заглянет: "Тут у тебя келья"... А потом еще наша сестра - Поля - к нам приехала. И стала она по хозяйству и в огороде, и с печкой,а я при Батюшке... И вот заболел он у нас. И Матушка его болеет, и сам заболел - простудился, крупозное воспаление легких. Уже не вставал. Раз мы с Полей молились преподобному Сергию, акафист читали. Батюшка очнулся: "Что это вы такое там делаете? Благоухание какое-то?"
- "А это мы,Батюшка, акафист преподобному Сергию читаем".
- "А-а. Я и гляжу: Старец стоит..."
А другой раз плохо ему стало: "Зина, читай отходную..." Я читаю, боюсь,а он и говорит: "Вот святитель Митрофаний подходит, благословляет..." А потом уж со всем плохо: "Надо причаститься... Дай мне Святые Дары..." Они у него тут хранились... Потом попросил зеркальце. У нас тут зеркала не было. Батюшка говорил, что у монаха зеркала не должно быть... Взял зеркальце, поглядел и говорит "Еще жизнь есть..."
А последние минуты днем наступали.
"Давайте, - говорю, - Батюшка, переоденемся..." Переодели мы его, сел он поперек кровати. А я посуду мыла чайную. А он так тяжело дышит и на меня смотрит... Глаза такие большие... И вдруг как откинулся об стенку головой и... готов. Я схватила свечку, скорей молиться... А Матушка из-за занавески: "Что там такое?"
- "Ничего... С Батюшкой плохо..." Тут она встала и поглядела: "Что это? Все?.." Скорее узелок свой схватила и на кровать... А ей когда-то сказали, что она в один день с ним умрет. Было это двадцать третьего марта, на день Лидии. Народ к нему,конечно, шел. Платочки ему в гроб клали, полежат они там, и опять берут себе. Гроб такой громадный был, широкий... А так легко вынесли в эту дверь - все удивлялись. Погода была ужасная, дождь лил прямо на него. И Матушка тогда ехала, лошадь сзади шла. А его до кладбища на руках несли...
Одна деревенская речь говорила: "Как нам не плакать? Кто это говорит, чтоб мы не плакали?.. Все мы к нему прибегали, всем он нам советовал..." И так громко кричала, на все кладбище... Пришли мы с похорон. Матушка легла, забылась...
И вдруг как закричит: "Что? Два года? Два года!..." - и заплакала. Это ей еще, значит, два года смерти ждать... "Так долго, так долго..." И прожила она у нас еще два с лишним года. Мы-то думали, она скоро за ним пойдет. А на вторую годовщину опять узелок свой взяла, ждала смерти... Потом расплакалась: "Скоро ли?"
Умерла в сентябре, в день своего Ангела. Ночью очень мучилась. Я Псалтырь ей читала... Глядит на стенку, а тут этот портрет Батюшки и висел, она и говорит: "Скоро?! Скоро?! Скоро?!..."
И схоронили мы ее в Батюшкиной могиле, рядом гроб положили... И вот после ее смерти Фросе во сне является Батюшка. И как стукнет посохом: "Сейчас же бросай работу; езжай живи к Зине!" Она ему: "Батюшка, мне пенсию надо отработать". - "Никакая тебе не нужна пенсия. Езжай к Зине!" И стали мы тут жить с Фросенькой. А потом и ее я схоронила. Она свою смерть предчувствовала. Ко всем за десять даже километров прощаться ходила. Насчет похорон все распорядилась, как поминки, как что... Это она нашим деревенским, а мне не велела говорить, и сама ничего не говорила. Жалела меня... Сердцебиение у нее было ужасное, врачи удивлялись... А все что-то делала, не могла без дела...Что-то делала в огороде, упала - сотрясение мозга... Потом простудилась - воспаление легких.Я ей вот тут кровать поставила, она так и лежала. И все, все терпела. Это как наш Батюшка говорил: "Не просто терпение, а благодарное и радостное терпение..." Первого марта - Антонины праздник был - пришли к нам две имянинницы Антонина и Евдокия. Блинов принесли, рыбы жареной... Масленица была. Фрося моя так хорошо блинков поела... Ну, ушли гости. Она лежите "А ты, - говорит, - читай вечернюю молитву..." Я читаю, и все оначто-нибудь видит. "Смотри, - говорит, - сколько ко мне гостей пришло... Марфа, Мария, преподобный Онуфрий, преподобный Сергий, Матушка Великая... Что это они тебя благословляют, а меня нет...
Ах, вот и меня благословили... Батюшка, пришел Батюшка... А Зина как же?.." Тут она и заплакала. Это он, наверное, ей сказал, что я еще тут останусь... А на утро поднялась в шесть часов. Ходит по комнате, смотрит... Я ей: "Ну что ты встала?" Она - ни слова. Потом: "Зина, ты все хорошенько убери. Чтобы на комоде порядок был..." Подошла ко мне, к комоду, поглядела на меня и повалилась... Похоронили мы ее тоже с Батюшкой, гроб в гроб...
Вот и осталась я тут одна... А Батюшка еще при жизни говорил: "Я после смерти вас не оставлю. Буду иметь дерзновение у Господа. Буду о всех о вас заботиться..." Это ему Матушка Великая всех поручила, когда ее арестовывали... В восемнадцатом году. Приехали они в обитель во Вторник, на Пасху, в третий день. "Мы должны вас увезти". Тут сразу вся обитель узнала, все сбежались. Она попросилась у них помолиться. Разрешили. Пошла она в больничную церковь.Батюшка к ней пришел. Сестры окружили... "Ну, - эти говорят, - надо ехать". А сестры тут: "Не отдадим,мать!" Схватили ее руками. А они говорят Батюшке: "Мы ведь посланные. Мы должны это сделать, чтобы хуже не было..." Посадили ее и сестру с ней, келейницу ее Варвару... Она говорит Батюшке: "Оставляю вам моих цыпляток..."
Была она и мать, и друг, и настоятельница была мудрая. И молитвенница особенная. Стояла, как изваяние, не шелохнется. Сколько раз в церкви заплаканную ее видела... И повезли ее... И сестры бежали за ней, сколько могли... Кто прям падал до дороге... А я тут как, раз пришла к обедне. Слышу, диакон читает ектенью и не может, плачет... И увезли ее в Екатеринбург, с каким-то провожатым и Варвара с ней. Не разлучилась...
Потом письмо нам прислала, Батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено и каждой по ее характеру. Из Евангелия, изБиблии изречения, а кому от себя... Она всех сестер, всех своих детей знала... И потом еще посылка от нее пришла-булочки какие-то нам всем. Говорят, потом их всех в шахту бросили. А Варваре сказали: "Вас мы не хотим бросать. Вы к ихней фамилии не принадлежите". А она им: "Как с Матушкой поступаете, так и со мной..."
Не разлучилась... А еще говорят, что в Святой Земле, в монастыре нашем, русском, есть гроба их серебряные - Матушки Великой и Варвары... Там она и легла, где хотела... А Батюшка еще Фросе во сне говорил: "Не тревожьтесь ни о чем. Все у вас будет в достатке". Я вот пенсию не получаю, хоть у меня стаж сорок лет... А живу - и никакой нужды". Дрова мне добрые люди бесплатно привозят...Огород копают, все сажают... За электричество с меня денег не берут... Хлеба всегда принесут, молока... И деньги присылают... Мне тут один из города, из собеса, пришел воды напиться:
"Что-то, - говорит, - я вас не знаю. Вы пенсию получаете?"
- "Нет",- говорю. "Как так?" - "А вот так..." - "Я вам могу выхлопотать".
- "А мне, - говорю, - она не нужна..."Так и живу тут, как Батюшка мне благословил, до смерти... А летом тут у меня народу много... Сестры бывают наши - Даша, Мария, Нина, Анна... Приезжают хоть на денек к Батюшке на могилку. Дети его духовные из Москвы, из Орла - каждый год... Да мало уж нас в живых сестер-то осталось, штук, наверное, двадцать... Батюшка нам так сказал: "Здесь у вас маленькая обитель. Всех, кто приходит к вам, принимайте..."
Господи, до смерти моей не дай мне забыть - курчавые облака, небо, распахнутое над лугами и дальним лесом, речушка Малица, толпа старых берез с тучей птиц над ними, грачиное "Р" над полуброшенной деревней, развалины церквушки, избушка Батюшки, его огород, где он копал картошку, его ель, которая так разрослась, его обительское кресло с потертой бархатной подушкой, кивот с безыскусными украшениями, лампадки, бумажные сытинские иконки, Святитель Митрофаний, Преподобный Онуфрий с бородою ниже колен, Преподобный Серафим согбенный и в такой же полумантии, как у Батюшки, и фотографии, фотографии - удивительное Батюшкино лицо, Великая Матушка с прямым носом и тонкими губами, Валентина Сергеевна, Батюшкина Матушка, Фросенька с цветами, и вечером тоненький голосок: "Се Жених грядет в полунощи..." и самоя Матушка Надежда, и как она провожала меня, как мы шли с ней через рожь, и как она потом стояла возле кладбища, где Батюшкина могилка, худая и прямая, со своим посохом, и как смотрела мне вслед, и как я, уже не различая черт ее лица, все еще чувствовал на себе ее взгляд несказанной доброты и кротости - все, что осталось в этом мире от Марфо-Мариинской обители милосердия.
июнь-июль 1971 г.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Рассказы, помещенные ниже, были написаны мною в семидесятых годах прошлого века и впоследствии составили значительнейшую часть сочинения под названием "Цистерна". Критика в свое время не удостоила эту вещь вниманием, но зато на нее откликнулся великий филолог и уникальный человек – Михаил Леонович Гаспаров. Его открытку с весьма лестным отзывом о "Цистерне" я бережно храню до сего дня.
ТОЛКОВИТЫЙ МУЖИК
Домик у нее аккуратненький, и стоит он, отступя от порядка, на окраинной улице. Грядки перед тремя окнами фасада на загляденье ухоженные и ровные. В сенях стоит неповторимый запах деревенского жилья. Пахнет своим квасом и еще непонятно чем, совершенно домашним. Задняя изба - так называется первая комната, где она и принимает гостей, - сияет чистотою. На столе светится самовар, который от времени и усердных чисток с песочком и кирпичом почти потерял никелировку и теперь показывает свое желтое медное тело. Лавки, бок печи, на полу настланы клеенки. Всюду мелкие груши и яблоки в корзинах и тазах. В углу - Царица Небесная, Владимирская, и перед Нею - лампада. Сама хозяйка маленькая, кругленькая, ужасно подвижная и живая. Возраст при этом разобрать затруднительно - не то под пятьдесят, не то за семьдесят. Усадивши гостя под божницей, она и сама присаживается к столу и уже не умолкает ни на секунду. Слова сыплются, как горох, но пулеметная эта речь звучит напевно. Говорит она всегда об одном и том же - рассказывает о своем отце.
- Соков его звали Василий Прокофьевич. Соков толковитый был мужик, он все Библию Евангелию читал, все пророки изучил к нему, бывало, и наши мужики и богатые купцы специяльно приезжали, он со всеми беседовал и всем объяснял, помню, все приходил к нему из города здоровый мужчина, толстый такой, потом земский начальник приезжал, он ведь один такое толкование имел все разъяснял вот бывало и этот говорит и этот и у меня есть Библия и я читаю а растолковать как Василий Прокофьевич не могу, и вот придут к нему Василий Прокофьевич говорят расскажи нам мы с тобой посидим он сейчас Библию с полатей снимет за стол сядет раскроет и говорит, первое дело говорит придет время не будет у нас царя и денег этих не будет сахару не будет и соли не будет, а они ему говорят этого говорят не может быть, а он им я говорит читаю у пророков я и сам не верю ведь и у самого деньги пропали и вправду не верил а только говорил им не будет у нас царя и денег этих не будет, а они ему дескать не может такого быть как же мы можем без царя и без этих денег как на камне трава не растет так и этого быть не может, а он все читал и рассказывал только по Библие придет время и храмы овдовеют как вдовые вдовицы потом осиротеют как сироты потом обнищают как нищие, как это так говорят овдовеют, а это, говорит значит колокола снимут, а как же говорят так осиротеют, а это священника говорит из храма возьмут, а как это говорят обнищают, а это значит разорят церкви и будут они как нищие, а я как увидела разоренный-то храм и грязный он и весь стоит черный так я заплакала и говорю прав был отец-то, а потом говорит придет время храмы разбогатеют пуще прежнего но не много их будет не все они будут придет время будет гонение на христиань пойдут винные с невинными всех под одну гребенку, нет говорят не может такого быть, а он говорит эти которые невинные будут всех грехов прощенные в тюрьмах наполнятся число с военными наравне священники первые пойдут в тюрьму а за ними и мы пойдем будут дети юноши в тюрьмах за прегрешения родителей а грех родительский обязательно взыщется, вот при мне мальчишку судили за шесть кило картошки в войну это было он им в суде объяснял пришел к матери а ничего у ней нет где-то он работал в городе пойду говорит в лес гриб найду какой увидел люк открытый а там картошка и набрал он сумчонку пойду говорит в лес испеку картошки да поем и вот дали ему два года за шесть кило картошки уж милиция и та ему вся сочувствовала говорят неужели человек ихний колхоз разорил мы говорим кто в суде-то сидели можно ему поесть а милиция говорит давайте все я ему хлебца дала и кто чего в сумке было все давали а девчонку при мне судили послали ее в ФЗУ работать она поработала да и не пошла не пойду говорит а отец-то ей и говорит не ходи с ребенком посидишь не помню у них мальчишка ли парнишка за это ее судили отец помню стоит и плачет значит говорит я теперь не хозяин своим детям я говорит работаю конюх жена у меня работает а с ребенком некому я ее и не пустил в ФЗУ и присудили ей шесть месяцев уж так она плакала плакала и все плакали я думала у ней сердце разорвется я вышла с суда и плачу сама-то и тут-то я его вспомнила отца-то говорил он придет время дети невинные юноши пойдут в тюрьмы, а потом говорит придет время на печи будете спать а тюрьму выспите и будут в тюрьмах невиноватые, ему говорят как это дескать так мы в тюрьму-то попадем коли ни воровать ни котовать не будем, а он говорит я грешил а дети мои за мой грех пойдут на печи говорит будете спать и выспите тюрьму на печи, а пришло время и вон племянница моя на работу десять ли пятнадцать ли минут проспала и на год ее в тюрьму она хоть и не на печи спала а на кровати а все одно тюрьму себе выспала вот тогда-то я его и припомнила как он говорил придет время на печи будете спать а тюрьму выспите, и еще говорил придет время в домах не иконы будет а музыка, все говорят не может говорят этого быть как это говорят так не иконы а музыка, а вот поехала я в столовую в Ковров и заиграло там радиво я тут прям и прослезилась вот думаю икон не стало а стало радиво и пока ела она все играла и пошла она все играет и так это мне не пондравилось знала бы думаю и не пошла бы туда обедать вот и помянула отца-то, и еще он говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, а они говорят быть говорят того не может как это так богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь как это он может обнищать сгорит что ли так у богатого и сын и дочка богатые он к ним перейдет и уж не дадут они ему по миру-то пойти, а они говорит придет время и позавидует богатый бедному и все богатство ихо пойдет по бедным, и удивилися все и говорят как уж это оно пойдет о ногами что ли оно, а он мужикам и сказал да говорит ворота только будете отворять встречать да принимать, а как раскулачили у нас-тона селе так они богатые ходили по всей деревне и кому чего пристраивали кому чего думали потом дескать попользуемся мне иха старая дева богатые они были мне помню говорит Клавдя говорит только до вашей говорит улицы не дошли а то по всей деревне в каждом дому наше добро вот тогда-то я его и помянула, и еще он говорит не берите ихнего ничего не покупайте и пусть дешево оно будет не прельщайтесь когда будут продавать их-то добро, у нас в деревне раньше ставили наряд на нищих на нослещиков сегодня твоя очередь тебе стучат и нищего ведут нослещика на ночь и тут уж не откажешь мы не отказывали уж какой бы он ни был нослещик и вшивые было у нас стояли и всякие уж у меня таки кровать была для нослещика и вот раз приводят мне его ночевать, Клавдя говорят ваша очередь пришел он это у порога сел на приступочках я и говорю ему иди говорю на лавку говорю есть может хочешь он говорит не против собрала я ему покушать, потом и муж мой приходит ваши говорит документы поглядел он так-то удивился и говорит как же говорит это ты доставщик его величества государю был и мог в нищие попасть, а у него двадцать две кондитерские были в каждом городе ведь у него кондитерская была и государь только что брал у него в магазине и был он кум ему царю-то крестил он у царя не помню только мальчишку ли девочку, в гостях у него был у царя-то я говорит милушка вон на каких перинах спал и так-то показывает а муж и говорит как же ты говорит в нищие-то попал, а он и говорит как пришло время люди стали в Америку уезжать я прихожу к отцу и говорю папаша и нам надо ехать ведь все отберут, а отец-то говорит полно говорит сынок что у нас доброго и люди возьмут и нам останется и не поехали, а когда нас шаркнули оставили нас только в бане отец-то тут от расстройства не помню чего и получилось и с женой а дети-то от него отписались и сам-то он как их шаркнули от расстройства оглох и вот рассказал он так-то, а я и вспомнила что отец-то говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, и вот еще говорил придет время и все это говорит приближается такое время что поле все соединят в одну полосу не будет нигде ни меж ни рубежей, а они говорят быть этого говорят не может, а он говорит и все говорит будут тогда работать вместе и сначала люди будут получать много и будут плясать и веселиться а потом получат со дна меры вот это как ведро-то перевернуть да сюда насыпать много ли оно выйдет, и правда когда колхоз-то настал они все на машину сядут да катят да баба одна подпрыгивает да ура кричит тьпфу думаю а сестра у меня раньше-то получала в колхозе тридцать пудов а потом получила три пуда вот те и со дна-то меры уж она ревела ревела и что поделаешь с тремя-то детьми, а потом говорит придет времяи будут они получать одни только единицы, так оно и вышло у них только палочки им всем и писали а ничего на них не получали, и говорит придет время будут ссоры и здоры и неприятности уж они там в колхозе-то бывало грызутся, а потом говорит придет время и петух на дворе не пропоет нечем его будет накормить-то и брат брата своего не познает и придет и не накормят его, вот голод-тобыли опять я отца помянула, и еще говорит придет время даже такое найдут люди лошадиное копыто подкову и не будут знать что это такое, вот теперь-то в городах лошадей и нет, и даже говорил коровий рог найдут и будут спрашивать другу дружки что это такое вот какое время придет, а как я стала с мужем дом строить не этот еще в деревне так только мы его покрыли не отделанный он был а отец-то ко мне и приходит доченька говорит доченька какой ты дом-то затеяла ты бы говорит на курьих ножках бы поставила ведь вы не будете как мы жить вы будете бежать с места наместо, и вот ведь правильно пришлось мне бежать, а легонький говорит домишко или перетащишь куда или продать так тебе не так-то тяжело будет и еще говорит не запасайте говорит хорошей одежи запасайте походячей вам в гости-то некуда будет ходить да запасайте побольше обуви а то скоро говорит обувь-то будете носить без заботы от пятницы до субботы швы-то развалятся вот она какая у вас обувь-то будет, я вот давя видала на остановке женщина сидела сапоги резиновые на ней новые а подметка отрывается я ей говорю сапоги-то говорю на тебе новые а подошва-то отвалилась она ах батюшки я ведь только одну неделю их ношу вот тут-то я его и вспомнила, придет говорит время хлеб будете есть все из одной печи, а они говорят нет говорят не может этого быть как уж это оно будет все из одной печи, а вот теперь-то уж и в деревнях никто хлеба не печет все едим из одной печи, испрашивают его Василий Прокофьевич когда ж это время-то будет, а вот говорит когда шпили-то на домах станут это время уже приближается а так-то он на меня на девчонку рукой показывает и говорит вот они будут матери горе горе ихо будет великое пусть говорит эти матери одеваются в ретище и усердно молятся за своих детей если умолят они то будут их слушать а если не умолят никаких их слов дети понимать не будут, придет время такое что люди не будут бояться ни зверей ни чертей а только будут бояться людей мы говорит раньше коли увидим человека сзади идет поджидаем а вы будете жить бежать будете от человека, и еще говорит придет время человека не знали и не узнать бы а вам придется с ним ругаться, а вот очереди-то настали так-то нам и приходится ругаться не знаешь человека не узнать бы а ругаешься приходится ругаться опять я его покойника помянула, придет говорит время будут девицы бестыжие лицы, и такое время придет что семь жен поищут одного мужа, нет говорят не может чтобы семь жен искали одного мужа, а вот я сама видала под Свет-номерами бабы дрались из-за мужика штук их пятьбыло и все они дрались да ругались ты что у меня его отбила а ты что у меня отбила нет ты у меня отбила уж я смеялась смеялась, а бабы-то и говорят хоть бы мужик был а то ведь и мужичишка у них плохонький, а потом придет время и у девушки закроются уста от песен так что какое-нибудь тяжелое время это будет что уж девкам будет не до песен, а то я-то еще девчонкой и говорю ему отцу вон говорю богатые как живут больно хорошо, а он говорит на завидуй придет время будете на печи лежать да манну с неба получать придут вам деньги-то на дом, вот мы ныне пенсию-то получили, и еще говорит придет время скажут вам бумаги у нас нет примите скажут печать на челе или на руке но вы не принимайте это будет говорит какая-то третья печать первые-то две мы и не заметили кто говорит примут эту печать эти люди все отойдут к сатане а кто не примут спасутся услышат с неба голос не тужите вы будете живы и сыты, а эти с печатями-то придут откроют склады а хлеба не будет будут склады пусты и тогда они зашумят и пойдут к правителю а он к ним выйдет на балкон весь в белом и скажет ти-и-иха! что вам? а они закричат хле-е-ба! а он им на небо укажет дождя скажет нет земля не родит где я вам возьму, и тогда они все разойдутся и воды даже им не будет бежать будут искать воды и будет валяться серебро они подумают это вода блестит а это серебро побегут и дальше - увидят блестит подумают вода а это валяется золото пятами будут топать не выжмут ли чего из земли водички кто где выжмет тот попьет потом побегут к горам горы падите на нас задавите нас а смерть от человека убежити смерти они себе не найдут это запечатанные-то так-то будут переживать, и придет время земля растрескается так что человек может войти в эту щель и придет время Господь уменьшит птиц плодов рыб и реки обмелеют а болота осушатся и будут сдвигать гора с горою...
Так вот и вижу: изба, на лавках купцы да земский начальник качают головами, на приступочках притихшие мужики, с печии с полатей свесились любопытные русые головки. А толковитый мужик Соков Василий Прокофьевич сидит за столом под образами в свете керосиновой лампы, сидит над раскрытой Книгой и вещает:
- Придет время...
- Придет время...
- Придет время...
август 1970 г.
На паперти
- Скоро уж откроют?
- Должно, скоро...
- Уж пошел отец-то Евгений.
- Да ты сядь, посиди...
- Что Клавдя-то в церкву не ходит?
- Хворает. Простыла, да все чишет, все чишет...
- Чишет? Так ведь это надо котовым хвостом.
- Хвостом?
- Бывало у нас как кто чихнет, бабушка сейчас спросит: "Кот-то дома ли?" Вот сюды прям в нос хвостом сует, да и приговаривает: чихота, чихота, иди на кота... С кота-то на дьякона, а с дьякона на всякого... И проходило.
- Вот ведь и хвораешь и все, а помирать-то не хочется.
- Кому охота?
- Да уж мне-то вон пора. Пожила. Вот тут бы в ограде и лечь. У меня отец тут, мать. Муж сорок второй год лежит... У ж я рядом-то лягу, хоть тут с ним поссорюсь... Ох, наподдам ему, ох, наподдам!
- Да будет тебе!
- Чего говоришь-то?
- Уж он и затылок, поди, протер, лежавши...
- Чего, скажу, рано ушел? Не ходи рано! У тебя уж вон и кости сгнили, а я по сею пору тут маюсь... Наподдам!
- Чего ты выдумала? Чего выдумала? И в мыслях этого не держи!
- Нет, пока еще держу.
- Да... Хорошо, как сразу умрешь, в одночасье. А то вон как моя-то соседка... Хуже нет. Заболела раком, четыре с половиной года мучилась. И сестру замучила. Сестра-то раньше ее умерла. Тридцать восемь лет...
- Когда не помирать, все день терять...
- Тридцать-то восемь, это еще что... Вон у нас, в Бутырах,еще тридцати годов ей не было... Тоське-то. Дело, конечно, оно чужое. Май был, а муж-то ее у порога топор положил, припас. Да веничком вот так-то прикрыл. А девчонка маленькая и спроси: "Зачем, тятя, кладешь?" А он говорит: "Надо". А как стали дом-то запирать, гулять идти, он тут-то ее и оглоушил. Топором. И ножом, ножом-то в грудь. А она только все: "Хватит... хватит..." И себе вот тут маленько на горле порезал. Дескать, драка, мол, у них была. Привезли их в больницу-то вместе. А потом его в тюрьму. Три года дали такого, что уж он и не вышел... А как Тоську с моргу брали, мать-то больно убивалась. Хошь она и не родная ей, мать-то, а. уж больно убивалась. "Праздник, - говорит, - мы все выпиваем, а он только на стол поставит. Не пьет". Он трезвый это дело-то делал. Двое детей...
- А им - что дети, что не дети...
- А то. я еще в девках была. До войны. Так-то под вечер с парнем шла. Идем рощей. Он мне тогда и говорит: "Как у вас в деревне-то хорошо поют". Подошли мы, а это не поют - ревут, плачут. Дуню Горохову муж застрелил. От четверых детей. Разрывной пулей полоснул в живот. Милиционер был...
- Этого сколько хочешь. Вот и у нас в улице, на Чайковским прям все с ножевого завода. Кто с молотком, кто с топором. В угловом-то доме уж он жену бил, бил... Она и убегла хуш бы к соседям. Он - за ней. А они ему и не сказывают, что, мол, она у нас-то. Спряталась-то. А он возьми, да и подожги дом.Соседям.К окну опять подошел, да и говорит: "Горите". Они не верят. Он опять: "Горите". А они не верят. Так и спалил подчистую. Потом выплачивал...
- У нас в улице - все покойники. То девку схоронили,то женщина одна угорела...
- Вон у нас Ольга-то летось мужа схоронила. Я ее и спрашиваю."Небось, жалеешь его?" - "А чего, - говорит, - мне его жалеть? Мало я с ним, - говорит, - мучилась?.. Раз корову гнала, да под кустом его застала с одной... Уж я дойницей и била ее, ох и била... Так ведь он и не заступился за свою... А как взялся помирать, так говорю ему: "Василий, хоть бы ты извинился передо мной, да покаялся..." - "Пошла ты, - говорит, - от меня на три буквы".И давай всех своих, прости, Господи, б... считать. Штук их одиннадцать. Вот с этой я еще, да вот с этой... Больно погано помирал... Я ему, дескать, что ты делаешь? Ты ведь отходишь,не сегодня завтра там будешь... А он смеется да считает их... "Покайся,- говорю, - покайся!" Ни за что не покаялся...Так чего же, говорит, мне теперь его жалеть?.."
- Они, мужики, сейчас такие...
- Сейчас и бабы-то такие, прости, Господи...
- Кто как отходит. У меня вон папа в тридцать третьем году помер. Скоротечная чахотка у него получилась. Все приходили к нам золото искать, да револьвером у него под носом крутили. Пугали... Видно, оно со страху-то... Вот в канун смерти приходим мы все к нему прощаться. А уж он лежит вроде как без памяти. А мама тут охапку дров принесла да возле печки бросила, со стуком-то. Он как вскочит! С кровати ноги спустил... "Что это?" - "Это, - говорим, - папа, дрова..." - "Ох, - говорит, - зря вы это сделали. У нас уж была, - говорит, - вербовка. Кому сегодня помирать, те в правую сторону, а в левую, кто завтра в семь часов... Теперь мне, еще целую ночь мучиться". Так вот, поверишь ли, ровно семь часов бьет, а он помирает. Я говорю: "Папа, папа, ты помираешь?" Он только сказал: "Ну и что ж".
- У меня вон напротив бактисты живут. Они не нашей веры. Покойников своих в церкву не носят. Так-то сами попоют. И песни все такие чудные: спокойной ночи, брат... Да и зароют...
- А то еще в Москве, говорят,какая-то крематорь. Там покойников огнем жгут.
- Сожгут, как гнилое полено, нажрутся, напьются, да и дело с концом...
- У нас тоже пьяных сколь хочешь. Вон отец-то Евгений, тот еще ничего. А Лонгин, ежели кто в церкви пьяный, он отпевать тебе не будет. Выйди и все...
- А вот соседка моя сюда к нам в церкву не ходит. В Никологоры ездит. Тут, говорит, поп ваш поляк и католик...
- Это Лонгин-то?
- Какой же он католик, когда он - благочинный?
- Теперь все перемешалось...
- Вот старые-то люди говорят, близок уж конец. Ох,близок... Все, дескать, совершится в этой сотне...
- Уж какой нынче народ пошел... Один мат, одно вино... Я говорю, хоть на волю не выходи, чтоб не видеть этого народу...
- Да вот хоть и у меня зять с дочкой. Как к ним не придешь, телевизор ли, радиво, чего-нибудь у них да брямчит. Ужя говорю: неужто вы семь недель, постом-то не можете без этого Содому? Ничего не скажут. Только что выключат, пока я, значит, тут у их... И едят чего ни попадя. Хоть бы вы, говорю, мясо не ели. Хоть бы одно молоко. Ну хоть бы какое воздержание. А то ведь как скотина живете... Да еще и хуже...
- Теперь чего не жить? Махнул полой, да и стыд долой...
- Купят жабу за две, за три тыщи и глядят на нее...
- Нам еще отец-покойник, Царствие ему Небесное,говорил...Настанет, дескать, такое время, что из тьмы один мужчина будет верующий, а из тысячи одна женщина... Вот сейчас в городе-то пятьдесят ведь тысяч народу, а много ли нас в церкву-ту идет?
- А и то сказать - одна церква на весь город... Раньше-то их вон сколько было...
- И эта-то как осталась удивительно... И то ведь разоряли ее.
- Да, вера им что нож острый...
- Мы раз так-то шли, монахиню хоронили... Идем за гробом улицей, Святый Боже поем... А навстречу председатель горсовета. Он как услышал, кричит: "Это что такое? Прекратить! Замолчите!" А мы на него не глядим, идем себе да и поем... Так уж вот он разозлился - видит, ничего не сделаешь, повернулся, да и пошел обратно...
- Это им - что нож острый...
- Так-то сказывают, вольный свет будет существовать, пока три праведника останутся... И два останутся, все еще будет существовать. А когда один останется праведник, то уж на нем вольный свет не устоит. Погибнет вместе с грешным народом.
- Я так слышала, дескать, пока еще дети есть от венчаных матерей и пока поют Христос Воскресе...
- А вот говорят, ежели под Светлое Христово Воскресение в двенадцать часов прийти на кладбище, к родным-то могилам...А часы поставить по-церковному... Ровно в двенадцать часов приложи ухо к земле, к могиле, да и скажи: Христос Воскресе! И вот услышишь,какой гул пойдет под землей-то... Как мертвые-то тебе ответят: Воистину Воскресе!
- А то я еще слыхала, как идешь через кладбище, погостом...
- Погоди. Уж открывают?
- Открыли.
- Ну, поднимайся...
- Вставай.
- Пойдем с Господом.
- Ох, грехи наши...
- Господи Иисусе Христе, Царица Небесная, помилуй нас, грешных...
март 1971
На толкучке
- А-а-а... Сегодня это что за базар? Вот в прошлое воскресенье...
- А куда она мне?
- Бери, бери! Чего смотришь?
- Ну и нечего глядеть!
- Вы говорите такую цену и не стесняетесь?!
- Это ведь шуба, не пальто...
- Дырявая шуба.
- Сам ты дырявый!
- Кругом одна дырка!
- Постыдились бы бесстыдство свое показывать!
- Это что это у вас лохматое? Шиньон?
- Шиньон.
- Ну, и сколько?
- Тридцать рублей... Его расчесать можно.
- Да ты померяй, померяй... Самый сейчас модный сапог!..
- В прошлое-то воскресенье тепло было...
- Бог-то, видать,совсем уж старый стал. Все путает - когда дождь надо, когда чего...
- У меня была ротонда на лисьем меху...
- Ротонда? Это что за ротонда?
- Все я продала, все у меня было. Какие у меня были сережки с бирюзой и с аметистом. Я работала в поликлинике, и лучше меня из сестер никто не одевался. Потому что мне сестра из Москвы присылала. Эх, всего я поносила, всего покушала. Икорку кушала и рыбку...
- Рыбка-то вон и сейчас есть. Треска...
- Да и той нет...
- Если бы у меня был жив зять, я бы так не бедствовала...
- Вот, бери одеяло...
- Нужно оно мне, как на Петровку варежки!
- Да ты мне ее так отдай, впридачу...
- У меня давалка-то не на палке, была бы на жерде, совал бы везде! -
- Это сестрина кофта. Болела она крепко. Теперь схоронили... Осталась я одна, как куст обкошенный...
- А деньги-то на поминки приготовила ли? Припасла?
- А куда они мне? Я уж есть не захочу... Завоняю - придут, похоронят...
- Поверх земли-то не положут...
- Где этот цыган-то тут вертелся? Не видали? Я ведь ему полтинник за двугривенный сдала!
- Уж он убег...
- Вы скажите, какая ваша цена?
- Ну, рублишку я дам...
- Рублишку?-
- Это же рухлядь, рвань!
- Ведь это - бывалочная вещь...
- Ей, может, сто годов!
- Самому тебе - сто годов!
- Вот всегда так. Пойдешь на базар, какая-нибудь очередь прицепится. Ну и стоишь...
- Я себе в питании не отказываю. Я тогда только себе отказываю, как придет пост. А в мясоед я себе ни в чем неотказываю.
- Я всех схоронила. Одним раком. Семь человек умерли одним раком.
- Меня все лечил еврей, да пользы никакой. Он терапеи лечит.
- У вас, говорит, рак в шестом, в седьмом поколении в крови.
- Вот она - хозяйка.
- Шапка беличья. На нее дождь пойдет, высохнет, и опять она такая же...
- Да больно дорого...
- Купи в магазине...
- Бульдозер на Луну запустить - это мы можем, а чтоб шапки свободно были, это мы не можем...
- Видал у галки свигалку...
- Он уж, почитай, с третьей живет...
- А чего тут дивного? Как раньше у цыгана лошади, так теперь у мужиков бабы...
- Америка нас не боится. Она нашей войны боится.
- А мы боимся ее техники. У нас таких орудиев нет.
- В Америке дамы с собачками гуляют, с веерами на лавочках сидят. А у нас этого нету.
- Он вчера бушевал. Он вчера был выходной.
- Нечего смотреть да разглядывать... Она ни разу не стиранная.
- Он у кого-то стянул велосипед. У него сроду велосипеда не было.
- Вы возьмете, другой возьмет, вот она и грязная!
- Он потому уехал, что он жену убил. Не жена она ему,а наложница...
- Дорого просите...
- Тут жила татарка. У ней муж порезал Бориса и тоже скрылся...
- Чего там дорого? Эти деньги теперь, как мясо в жару...
- Мне на ремонт три ведь тыщи надо...
- Три тысячи?
- Старыми три...
- Тьпфу!.. Что ты все старыми считаешь?
- Мы ведь его, дом-то, ставили на старые...
- Да, бери, бери, не бойся! Она шунчовая. Дочка с фабрики принесла. Они там все чистое такое работают - полотенца фланелевые, ш у н ч у...
- Хы! Все бывает. И у девушки муж помирает, а у вдовушки живет...
- Сама-то ты на гуще, а любишь на дрожках.
- У нас в улице как взялось гореть... В понедельник дом сгорел. Во вторник. В среду - три дома... И чего горят?..
- Все, подчистую! Вор-то ворует, хоть стены оставляет, а пожар-то нет.
- Не говори. Вон у нас хозяева-то хоть вытащили так кой-чего, а квартиранты их и на работе были. В чем ушли - в том и остались. Одни фуфайки - ни ложки, ни плошки...
- Покажь, покажь! Сегодня - не Казанская!
- Что? Денег жалко?
- Вон на вино им не жалко!
- Дуют, как квас в покос!
- Старая ты, а дура.
- Дура?! Это я - дура?! Скотина ты! Скотина и есть! Скотина безрогая! Я те дам - дура! Умная! Твоими бы мозгами мне задницу подмазать!
- У Клавди-то слыхала, чего было? Она свово на пятнадцатьсуток оформила. Он отсидел, вернулся домой и говорит ей:
"Я, говорит, там пятнадцать суток все парашу выносил да нюхал..."Взял горшок-то ночной, дети напрудили, налил ей полстакана... "Пей!" - говорит. Она не хочет. А он взял кочергу. "Башку, говорит, отшибу!" Ребятишки-то и говорят: "Пей, говорят, мама, ведь убьет". Ну, она и глотнула. И теперь милиция не знает, каким его судить судом. По какой такой статье...
- Что делается...
- Твой-то работает?
- Как же, заставишь его. Ходит к пристани кой-что выставя...
- Я снохе купила, да вот не хочет носить... Немодное!
- Плохо живете?
- Можно бы хуже, да некуда. Я ведь и то им говорю: вот придете к холодным-то ногам...
- Хуже нет, как брать коммунальных-то этих, каморочных.
И по дому ничего не сделает, и в огороде от ней проку нет...
- А с ними разве можно ладить? Это - змеи. У нас в улице их много. Летом выйдут, я смотреть не могу! Я их еще зову - вешалки. Они на мальчишек-то вешаются. Прям вешалки и змеи шипучие!
- Ну и молодежь пошла! Плюнешь в рожу - драться лезут!
- Разве это - базар? Вот в прошлое воскресенье...
декабрь 1970 г.
Понедельник
- Раздевайтесь! Кому говорю, раздевайтесь!
- Да мы не сядем...
- Не отпущу, не отпущу, не отпущу! Это вам кафе - не забегаловка!
- По одной кружке...
- Ни по кружке, ни по полкружки! В пальто ни одного не обслужу!
- Вот ведь какая вредная... Люди на работу спешат...
- Перед работой и пить нечего.
- Подержи-ка пальто.
- Привет, блудные сыны!
- И ты уж здесь?
- Чердак болит - надо чего-то делать...
- Небось баба-то деньги на обед дала, а ты - на стакан.
- Тут тебе обед, тут тебе и завтрак.
- Пиво-то не больно хорошее.
- Вроде бы как подсоленное.
- Эх, вот я в Костроме был - там и пиво! И палатка на каждом шагу, прямо из цистерны дуют. И вино тут под видом пива, и бутерброды... Пивовар у них хороший - вкусо в самую точку попадает. И пьяных-то у них не видать, не как у нас - валяются. Выпьешь за углом два стакана, да без закуски... Вот тебе и все. А там этого нет. Там чинно,благородно. Пару кружек да бутерброд...
- Еще по одной?
- Вали!
- Не опоздаем?
- Ничего не сделается...
- А вот я в Саратове летом был. Там тоже пиво - сколько хочешь.Приезжает прям в улицу железная бочка, как у нас квасом торгуют. И все валят - кто с ведром, кто со жбаном, кто с чем...
- Это что... Тут в шестьдесят третьем, кажись, году - морозы-то зимой были сильные... И вот у нас на межрайонной базе все красное вино - вермут там, портвейн - все замерзло. Да бутылки и полопались... Ну, чего?.. Списали все... А мужики, кто на базе работает, достали чан, развели костер и давай их греть прямо с осколками. Потом через решето процеживали... Тоже ведрами домой таскали. Вон у меня брат в ГАИ работает, рассказывал. В Чудинове на шоссе машина с водкой перевернулась... Все до одной бутылки побились... Ну, водка вся в канаву стекла и так-то лужей стала... Милиция еще только едет, а мужики чудиновские уже на четвереньках ползут... Ведь что удумали?.. Тряпки в луже мочили и в ведра выжимали. Откуда-то у них тут и тряпки, и ведра сразу взялись... Еще милиция только едет, а уж они на четвереньках ползут...
- Привет.
- Трешь, мнешь, как живешь? Яйца катаешь, как поживаешь?
- Живем по-херовски, курим папироски...
- Раздевайтесь, так неотпущен!
- Давай пальто подержу.
- Ты чего так пьешь?
- У меня баба заболела. Рот открыла, закрыть не может. Орет, орет... Совсем сбесилась.
- Ну, да. Вальс - плиз! Две коленки вверх, две вниз...
-Ты чего пьешь, не торопишься?
- Пускай мастер торопится. Мне - чего?
- Эх, работа...
- На той-то неделе мы хорошо работали. Четыре дня энергии не было. Асфальтовый завод, вторчермет, сельхозтехника - три предприятия стояли...
- Ну и чего?
- А ничего. Крановщик, видно, пьяный на машине ехал, да провод и оборвал. Они в тот же день его уделали, а потом три дня начальники спорили: ты плати! - нет, ты плати, нет, ты... Четыре дня. Акт не подписывали. А всего-то дела - надо было монтерам на литровку дать...
- Вот где смех, килограмм двадцать...
- Смех смехом, а она все кверх мехом.
- А ты - чего? На больничном был?
- В командировку ездил, елки зеленые...
- В Москве побывал...
- Да ни хера я ее не видел, Москву-ту!
- Пьяный был?
- И то бы лучше... Дачу одному уделывали...
- Дачу?
- Вот, елки зеленые, чего бывает. Вызывает меня мастер. Говорит: "Надо на несколько дней в Москву съездить".
- "Не могу, - говорю, - я сейчас крышу крою".
-"Нет, - говорит, - я больше такого человека не найду. Не подходит больше никто к этому делу..."Ну и поехали. Начальник, мастер, шоферия. На пульмане, ЗИЛ-150. Полный был загружен. Я после-то узнал. Нашей конторе плиты бетонные во как нужны. А этот, чья дача, он в Москве плитами заведует... Дескать, вы мне дачу уделайте, а я вам-плиты...Сам начальник конторы поехал, елки зеленые... Работал у меня - я как за бригадира был. Мы там все четверо вкалывали, будь здоров - по шестнадцать часов. У нас в пульмане - кольца бетонные, трубы, тес. Колодец ему вырыли, насос поставили, бочку для душа на три метра захерачили... Доволен, гад, был. Все рыбкой сушеной угощал, лещиками... Начальник-то с мастером пить боялись, а я - мне чего? Наливай! Чудеса, елки зеленые!
- Вот.
- Вот. Дали ему год, отсидел он двенадцать месяцев и вышел досрочно...
- Айда, ребята...
- А ты чего?
- Я еще посижу. Ничто им... Башка трещит...
- Здорово!
- Ты чего?
- Я ногу сломал...
- Вот елки зеленые!
- Если бы ты ногу сломал, ты б сейчас здесь не был.
- Пошли, ребята!
- Не, честно... Я, понимаешь, ногу сломал. С воза упал. Я сейчас в отпуске. В деревне, у матери. Дочку привез в интернат. У меня жена в девятый раз с ума сошла. Она у меня у тещи, у своей матери. Девчонка все понимает, двенадцатый год... Не хочет в интернат. Я тут близко над стеклянным магазином живу. Мне две комнаты от фабрики дали. Я сейчас в город от матери ехал, со мной кондукторша знакомая попалась. Моя первая любовь. В армию меня провожала. Плакала. Теперь замужем, двое детей. Денег с меня не взяла. Я теперь сам не свой. С воза свалился, ногу сломал...Я там в совхозе подрабатываю. Я с вилами наверх залез, а тракторист дернул. Вот до сих пор все болит. К врачу надо идти. Я у матери утром курице голову оттяпал. Суп сегодня будет. Я сам - в отпуске. Жена у меня, понимаешь, в десятый раз с ума сошла... Слушай, парень, будь друг, купи мне пачку "Прибоя"? Спасибо, друг... А может, еще по одной выпьем?.. Не хочешь? Ну, не хочешь - как хочешь...
декабрь 1970
В предбаннике
- Ну, чего? Еще разок? С веничком?
- Погоди ты... дай отдышаться... Больно горячо...
- Да разве это пар? Из трубы хера ли это за пар? Мокрый да вонючий...
- А тебе б в Раю жить, да чтоб у святых ноги не потели...
- Вот в Ульяновской губернии, там они так не парятся...
- Какая тебе Ульяновская губерния? Балда ты огуречная... В Симбирской губернии... Это теперь она Ульяновская. Область...
-У меня вон дедушка восемьдесят шесть лет, а сам еще в баню ходит. И обязательно парится...
- Это и у меня дедушка ходил. Восемьдесят девять было...
- А что? Помер?
- Год уж ему... Так тихо, спокойно умер. Только вздохнул разок, и все... А день-то был, пенсию носили... Только он умер, минут пятнадцать почтальонка пенсию несет... Я-то уж в окно вижу, она идет. Она где чай выпьет, где кофий выпьет, где ей двадцать копеек за пенсию дадут, где - что... Вот и шляется, долго не идет. И вот, гляжу, она идет, а он еще тепленький... А я его так на бочок положил. Так-то сделал, будто он спит. Она заходит. Я его за плечо подергал: "Дедушка, дедушка!" Он, будто, ничего... Говорю ей: "Может, вы без росписи выдадите?" - "Нет", - говорит. Такая вредная попалась. Ну, я еще его подергал: "Дедушка, дедушка, вставай!" Он - ничего... Я говорю: "Болеет он у нас...Может быть, дадите?" - "Нет", - говорит. Ну, что делать?
Дернул я его еще разок. "Ах, ты, - говорю, - ведь он умер..."- "Ах", - говорит. "Ну, ведь,-говорю, - он ведь только что умер". "Не могу, - говорит, - дать". - "Ну, - говорю, - может, вас пять рублей устроит?" Пять рублей ее устроили...
- Да, как помрешь, так уж тебе ни пенсии не надо, ничего...
- А может, ему чего и надо, да ведь уж он не скажет тебе...
- Душа-то, ведь она куда-то девается... Может, не в Рай и не в Ад, а все ж куда-то...
- Или вот еще толкуют, говорят: кто был раньше - яйцо али курица?.. Так ежели она, курица, будет, она сколько тебе яиц накладет?..Или вот страус... У него яйцо - во! - с твою голову...
- Да, природа, она есть природа...
- А вот ты мне скажи, из чего комар создался? Он тут у уха пищит, пищит, так и лезет...
- Он пищит, по-своему визжит. Своих созывает.
- Да,каждый по-своему кричит. Бык по-своему, курица по-своему, и вон петух - по-своему... Пошли, что ли?
- Погоди, дай взвеситься... Это с какой же руки тут считать? Это что же у меня - девяносто?
- У тебя-то девяносто?
- Известное дело - бараний вес...
- А он пол-литра выпил, вот тебе и полкило весу...
- Он у нас не пьет.
- Что ж он татарин, что ли?
- Это раньше татары не пили. Теперь жрут больше русских...
- А ты чего молчишь?
- Вон у нас татарин-то...
- Вино Пророк запретил. А он почему запретил? Он туда шел, видит, люди пьют, веселятся, песни... "Вот, - думает, - хорошо. Дети мои делом заняты". А обратно он шел, смотрит: кто где - кто в озере, кто в луже, кто на голове стоит... Безобразие такое. Он и запретил...
- У нас один в улице бросил пить, как цена на водку поднялась. "Все!" - говорит. Так и не пьет.
- А! Какая цена на нее ни будь, все хватают...
-За любую цену возьмут. Нас, дураков, еще угол непочатый...
- А есть, кто по здоровью не пьет...
- Есть чудаки...
- Это со мной случай был... Мы с училища летели, с Алма-Аты. Летим - три курсанта... А там у них был пленум ЦК, ихней там компартии. Ну, летим втроем. Две бутылки коньяку тогда взяли да красного. Ребята впереди двое сели, а я сзади. А рядом со мной мужик у окошка. В костюме. Ну, взлетели... Я стюардессу - раз: "Тащи четыре стакана". А он тут сидит у окошка. Ну, я разливаю своим и ему: "Давай, мужик!" - "Нет, - говорит, - я не пью. Желудок, - говорит, - не позволяет..." - "Да брось ты, - говорю, - чем заболел, тем и вылечишься". - "Нет", -говорит... И все... Ну, мы выпили, летим. А видимость так хорошая. Он все в окно глядит: "Ах, сколько земли пропадает..." - "Да брось ты, - говорю, - мужик! В союзе земли много..." - "Нет, - говорит, - это моя стихия". - "Ну, - говорю, - у меня другая стихия". Наливаю опять."Ты лучше выпей". А он все: "Сколько земли пропадает". - "Да брось ты, - говорю, - расстраиваться, мужик..." Яуж тут по плечу его хлопаю... "Давай выпьем!" Нет и все... Ну, тут мы уже обе их раздавили и красное... Ладно. Прилетаем в Москву.
Гляжу, ему - особый трап. Он шляпу надел и в "Чайку"... У меня глаза на лоб полезли... Спрашиваю стюардессу: "Кто это мужик летел?" - "А,. - говорит, - это министр сельского хозяйства всего союза". А я его по плечу...
- Это он, может, в самолете не пьет. А так-то дома, под икорку...
- А чего? Я тоже без закуски не пью...
- Налью тебе стакан, пить не будешь?
- Не буду.
- Ну, это ты скажи тому, кто не знает Фому, а я - дядя ему.
июль 1971 г.
Витек и Юрка
Прошлое воскресенье у меня с утра трещала голова, и я решил пройтись по городу. Сначала потолкался на барахолке, ходил мимо развешанного на заборе тряпья и разного старого хлама, разложенного прямо на снегу. Потом вошел в самый базар. Не выдержал - с жадностью съел у прилавка замерзший соленый помидор и такой же ледяной огурец. Больше было тут нечего делать, и ноги понесли меня по направлению к столовой "Заря", где, как я знаю, изредка бывает пиво.
В просторном и неопрятном зале было немноголюдно. Посетители сидели строго разбившись на два лагеря - поближе к кухне те, что пришли поесть, поближе к буфету те, что пришли выпить пива или портвейну. Я купил у буфетчицы кружку и пошел к столику у окна. За ним сидел в одиночестве крепкий тридцатилетний паренек с красной физиономией и оттопыренными ушами. Одет он был почти щегольски - шерстяная рубашка и добротный синий костюм. Пиво пил важно и сосредоточенно.
- Разрешите? - сказал я.
Он молча кивнул, и я уселся. Говорить и мне не хотелось. Каждый из нас был занят своей кружкой. Моя кончилась быстрее, я встал и подошел к буфету.
- Повторить? - услужливо спросила буфетчица и налила мне новую порцию.
Я вернулся за столик.
В зал вошли еще три человека. Оглядевшись, они приблизились к моему соседу и молча пожали ему руки. Потом, очевидно решив, что мы с ним собутыльники, поздоровались и со мною.
Один из них - личность примечательная. Высокий, худой.
На лице и на переносице несколько глубоких царапин. Нос опух,и нельзя разобрать, природная на нем горбинка или благоприобретенная.Глаза совершенно заплыли. Пестрый бумажный свитер, под которым скорее угадывается, чем виднеется расстегнутая черная рубашка...
Двое других - шестерки. Один такой серенький с припухшими губами, а другой - белобрысая челка и носик выемкой.
Эти двое принесли пиво и стаканы, куда немедленно был налит цвета марганцовки портвейн. Мне тоже предложили, но я отказался. Они осушили стаканы, запили пивом.
Сначала заговорил Юрка - тот самый, солидный, в синем костюме, к которому я подсел.
- Прихожу,понимаешь, с работы - матери нет. Я в гардероб. Смотрю, нового пальто тоже нет. Я - к соседям. Говорят,не бывала.Я - к снохе. И тут нет. Я туда, сюда... Иду в больницу.
Точно, говорят. В Горький отправили. В больницу. Рак у нее.Желудка. Мы со старшим братом к врачу ходили. Говорим, нам-то хоть скажите.Рак, говорит, желудка. Ей-то не говорят. Хронический, дескать, гастрит у тебя. И есть ничего не может. Только молоко, сметану... Тут недавно прихожу, говорит: "Юрка, чего-то пельменей хочется". - "А чего? - говорю, - мясо у нас есть. Много ли нам вдвоем-то надо? Давай накрутим". Ну и накрутили. И вот, поверишь, только что четыре штуки съела - вырвало. Шестьдесят два года. Сколько еще протянет?.. И младший брат вернется, чего будет делать?..
- Толька? - сказал Витек, худой с разбитым лицом.
- Ну! - подтвердил Юрка, - Это ведь какой жук! Он в зоне, мне ребята говорили, он там работает, как лось... А выйдет - все. Ему какая хочешь зарплата, хоть шестьдесят рублей, только бы ему не работать. Только бы ему ни х... не делать. И, главное, хитрый ведь какой. Вот ты ему говори - он тебе поперек ни слова. Как будто соглашается. Знает, старший брат. Будет спорить, я же на него наору. А отойди ты на два шага, все по-своему сделает. В зоне вкалывает, а тут не хочу - и все!
- Он вообще чудак, - сказал Витек. - Вот он мой ровесник. Двадцать семь ему, а уж он почти червонец сидит. Только выйдет, его обратно в зону тянет...
- И там он работает, как лось, - сказал Юрка. - Чего теперь будет делать, не знаю. На мать уж надежда плохая. Старший брат - у него семья. Сестренка у нас в институте учится. Хочешь не хочешь, а каждый месяц - тридцатка. Ему бы какая ни зарплата, только бы ничего не делать. Я в Прибалтику уезжал, на асфальтовом заводе работал. Говорю мастеру: "Возьми братишку на мое место". Там три дня в неделю работаешь, остальные на Клязьме лежишь загораешь. И меньше ста восьмидесяти не получается. Если ты там два дня прогулял, бригадир никогда тебе ничего не скажет. Ноне пятнадцать же дней. Тут тебя уж никто не покроет. А мать у меня такая. Никогда денег не спросит. Сколько ей в получку принес пять рублей - пять. Сто семьдесят - сто семьдесят. Никогда не спросит. Положил на швейную машину и все. Утром говорю:"Мать, мне похмелиться надо, дай два рубля". Без звука...
- У меня такой характер, - сказал Витек, - сколько денег есть, только стакан попал - все! Все пролетят. Ты вот ухитрялся три раза в день напиться? А я почти каждый день так... Лечиться думаю.
- Мне лечиться ни к чему, - сказал Юрка. - Я захочу - не пропью. Тут мать приходит, говорит, в ателье материал есть по двадцатьчетыре рубля метр. "Цвет, - спрашиваю, - какой?" - "Черный, - говорит, - без полоски". - "То что надо". А денег ни копейки. Так вот, веришь, я из аванса три рубля пропил, а из получки - два. Нет, и все! Или вот я в Прибалтике жил. Двести сорок зарплата, девяносто командировочные. И все подчистую пропьешь.Иной раз на питание не хватает. Придешь к семейному: "Дай десятку, на питание не хватает". Вот дочего доходил. А тут отпуск. Ну, думаю, мне деньги будут нужны. Целый месяц тут надо гулять. И как отрезал. Говорю: "Не высылайте мне зарплату. Только командировочные". На питание хватало - во как! В воскресенье бутылку возьмешь, и нормально...
- Нет, у меня все летит, - сказал Витек. - Характер такой... Слыхал? Казбек из особого в строгий перешел? "Через четыре года я, - говорит, - опять тут буду". Понял?
- У него ведь побег отсюда, из нашей зоны был, - сказал Юрка. - Я тогда в милиции на "Победе" работал. С автоматчиком его вывели, посадили в машину. С тех пор я его не видал.
- Не, ты соображаешь, особый на строгий? - сказал Витек.
- Значит, он чего-то там думает...
-Таких артистов сколько хочешь, - сказал Юрка. - К нам, помню, прокурор по надзору приезжал, рассказывал. До 1 ноября шестьдесят девятого года в "крытке" легче было, чем в строгом. Так такие есть артисты. Он тебе такое нарушение сделает, что срок ты ему не добавишь, а в крытку перевести надо. Таких артистов сколько хочешь. Или вот симулянты. У нас в зоне многие на аппендицит косили. Скажет все признаки, ну, его и режут. Каждый день - операция. Полбарака резали. Ну, одного они все ж поймали. Он все признаки сказал, а его врач и спрашивает: "На каком, - говорит, - ты боку спишь?" А он и скажи: "На левом", - говорит. "Иди - говорит, - отсюда, симулянт". А там оказывается, на левом спать - он еще хуже болит. Кишки как-то там натягиваются. "Иди, - говорит, - отсюда, симулянт".
- Тащи еще пиво, - сказал Витек белобрысому с выемкой на носу. - У тебя вроде червонец был?
"Выемка" неохотно вынул аккуратный бумажничек.
- Я его разменял.
Я вынул рубль и положил на стол. Рубль взяли не сразу, и "выемка" с "сереньким" пошли за новой бутылкой марганцового портвейна.
- А помнишь, у нас война была? - сказал Витек. - Поверишь, по шестьдесят человек выходило с ножами, с палками, с обрезами - кто с чем. Ярцевские на городских. Драка была - что ты. Шесть человек в больницу отвезли.
- Тут у нас как, - сказал Юрка, - в Ярцеве парк и в городе - парк. Там танцы и тут танцы. Ярцевских поймают в городе - бьют. Городских в Ярцеве бьют. Городские меньше чем по семьдесят человек в Ярцево не ездят. Вдесятером там делать нечего. И те так же... Ну и драка же тогда была. На суде потом только спрашивали: "Видели, как этот дрался?" - "Видели".- "Три года". - "А этого видели?" - "Видели". - "Два года". Так гребли, за милую душу...
- А помнишь, - сказал Витек, - парк хотели закрывать?
- Это из-за студента, - сказал Юрка. - Студента одного тогда ножом пропороли и в пруд скинули.
- На смерть? - сказал я.
- Нет, просто так порезали, - сказал Юрка. - Ну, девчонки из общежития вызвали скорую помощь. И пошло дело. У него мать оказалась партийная. Шум подняла. Из области понаехали. Думали парк закрывать,
- Да, было время, - сказал Витек, - я тогда без ножа из дома не выходил. Всегда с ножом. А теперь вот боюсь. Как пьяный "мусора"увижу,так бежать. Не хочу опять в зону. Надоело. Я ведь в пятнадцать лет первый разряд по баскетболу имел. И по плаванью. Меня в техникум без экзаменов брали. Знаешь, какой парень был... А потом стал закладывать, и пошло...
"Выемка" и тот, "серенький", притащили еще одну ноль восемь. Я опять отказался от стакана и купил себе еще пива.
-Давай познакомимся, - сказал Витек, когда я вернулся с кружкой. - Я ведь думал, ты Юркин друг.
Мы еще раз церемонно пожали друг другу руки.
"Выемка" разлил портвейн, и они выпили.
- А помнишь, как с солдатами дрались? - сказал "серенький".
- С солдатами драться не надо, - сказал Юрка. - Чего с него взять. Он по своей воле, что ль, сюда приехал? Это еще хуже, чем в зоне. Там ты хоть знаешь, за что сидишь. Украл, убил или там подрался. А солдат - чего? Приходит он домой, а ему повестка: кружка, ложка и поехал... Чего его бить, он не виноват.
- Нет, - сказал Витек, - я тебе говорю: с солдатом лучше не вяжись. Шел я тут мимо части ночью. Смотрю, солдат девку у забора наладил. Я его за плечо, говорю: "Я - второй". А он мне: "Пошел ты..." - говорит. Я ему в рожу. Он мне. Ну и понеслась...
Тут я наверх глянул, через забор еще лезут пять рыл. Ну, я - бежать. Откуда только ноги взялись... С солдатом лучше не связывайся.
- А чего с ним вязаться, он не виноват, - сказал Юрка.
- А ты сам кем будешь? - спросил у меня Витек.
Пришлось представиться.
Витек свистнул.
- Это хуже чем прокурор,
- КГБ, что ли? - сказал "выемка".
- Хуже, - сказал Витек.
Тут я попросил разрешения как-нибудь отыскать его,чтобы потолковать по душам.
- X... с тобой, - сказал Витек, - приходи. Только пораньше приходи. Вон Борька меня почему сегодня поймал, он в полседьмого пришел.Я еще сплю. А так бы ни х... он меня не нашел. Я уж пошел шляться. Я жене зарплату до копейки приношу. Девяносто рублей. Я ее никогда не обижаю. Ограблю кого или там что - ей всегда пятерка, десятка. Она мне только говорит "Не надо мне твоих никаких денег. Только ты не пей". А я не могу. Как стакан попал, так все... Дочка у меня два с половиной года. Любит меня, ужас как. К ней не идет... "Я, - говорит - к папе". Я иной раз по пьянке думаю, повеситься мне... "Мне, - говорит, -денег твоих никаких не надо, не пей только... Ты на себя посмотри, весь ты порезанный, поцарапанный... То ты с ножом идешь, то с молотком, то с топором...". Ну, х... с тобой, приходи... А только я не думал, что ты это... Я думал, ты из щипачей.
В четвертой кружке пиво оказалось каким-то водянистым и кисловатым на вкус. Я с трудом допил и поднялся из-за стела.На прощание Юрка сам мне вручил свой адрес.
- Заходи, - сказал Юрка. - Особенно летом. В июне. У меня не дом - дача. Раздевайся, загорай. Клязьма - рядом. Яблонь у меня тридцать штук, а вишен не счесть. Заходи.
Я еще раз пожал руки всем четверым и вышел на солнечную мартовскую улицу.
1971 г.
Миллион двести тысяч
- Садись, садись... Свободно. Присаживайся. Она сейчас уберет. Чего? Обедать пришел? Тоже хорошее дело. А я вот пиво пью. Между прочим, сейчас его в городе нигде не достанешь. Только в ресторане.
Я сегодня с женой поссорился, а ну тебя, думаю... И пошел пиво пить. Городишко у нас паршивый, куда денешься? Только в ресторан... Тут чего - льнокомбинат, текстильные фабрики, незамужние ткачихи составляют большинство. Завод осветительной аппаратуры, его пока заключенные строят. Да вот наш учебный центр, считается ДОСААФ... А я - инструктором. Летчик не летчик, а вроде того... Не то в армии, не то на гражданке. Не поймешь. Я под миллион двести тысяч попал. Слыхал тогда? Хрущев пошутил в шестидесятом году. Нас парней таких молодых, здоровых... Миллион двести тысяч.
Чего я тогда был? Курсант, идеальный человек. Двадцать пять пачек Беломора нам давали... Девушка, еще пару бутылок... А как получилось? Кончил я первоначалку, попал в боевое. В Кинешму. Инструктор у меня там был Рубакин. Такой спокойный человек. Не ругался даже. Один только раз обозвал меня. Мудак, говорит, ты... Инструктор - бесподобный. Он теперь в пилотажной группе...
Приезжаем в Кинешму. Там такое помещение - что ты! Всюду паркет. Мы там пол не мыли - полотером его. Там до пятьдесят третьего года учились немцы. Вот для них и расстарались. Паркет, в туалете кафель... Между прочим, немцы - они на желудок слабые. Поносят, дрищут... Мне инструктор-старик рассказывал. Как лето, так они поносят. Не с кем летать... А Рубакин теперь в пилотажной группе. Его все знают. Персидский шах приезжает, а он на сверхзвуковом начинает дорываться. Он, между прочим, там у них погорел. Из-за этого дела. Закладывает. Сейчас насчет этого строго. Был капитаном, срезали до старшего. Можно было выгнать его, но пилотяга бесподобный... это раньше было. В шестьдесят первом, в шестьдесят седьмом. Ребята гонят самолеты с Москвы, с парада. Летят парой, расстояние пятьдесят метров - видят друг друга. По радио: "Давай?" - "Давай!" Вынимают по четвертинке, раскрутили и туда ее... А сейчас строго. Пульс, давление. Если сомневаются, трубку тебе дадут на анализ. Иначе нельзя.
А вон Гагарин-то с Серегиным. С похмелья они были с великого. А там, между прочим, руководителя полетов оправдали вчистую. Он им так и сказал: "Я запрещаю вам". Но ведь Гагарин. А Серегин-то был командир полка. Взяли машину, взлетели и понеслись... Они брали сверхзвуковую скорость на неположенном типе. Самолет-то неприспособлен. Пастух стоит - бах! - сверхзвуковой хлопок. Очевидец-пастух рассказывает. В километре от него под углом семьдесят градусов. Ну как так можно? Скафандр с головой в сторону, сигара в земле... Искали их в течение месяца. Как археологи. Найдут кусочек мяса, кисточкой его и - в институт. Найдут деталь и - в институт. Сам он виноват. Не может быть, чтобы летчик погиб так по-дурацки. Серегин-то полковник простой, ему бы там в кремлевской стене не лежать никогда. Самолет, видимо, разрушился. Он для этой скорости не приспособлен.
Не говорят нам всю правду. У нас вот приказы бывают, если кто разбился. А о Гагарине приказа не было. Их вертолетчики тогда искали, рыскали... А очевидец - этот пастух. Первый раз, говорит, прошли - такой звук, чуть не упал. Второй раз, смотрю, сигара падает. Градусов под семьдесят... Девушка, еще бутылочку...
Да, пошутил тогда Хрущев. В мае шестидесятого года. Тысяча сто человек нас - ждем приказ. Или в часть, или на х... на гражданку. Двадцатого мая приказ. На гражданку. А мы уж летали, летчики...Оформляют, одевают в офицерскую форму... В июне выхожу на гражданскую. Жизнь только что начинается, и она бьет меня по мозгам. Хрущев мне тогда, сука, крылья подрезал. Я бы сейчас самое меньшее майор был по моему здоровью... Вот, говорят, пиво с солью пить нельзя. Печенку разъедает. А я скажу - чепуха. Если у человека есть здоровье, ни черта ему не будет...
Ну, выхожу на гражданку. Молодой я, диплом у меня. Прихожу на завод. Берут на испытание двигателей.Там двигатель реактивный ревет. Поставят его за бетонной стенкой, а ты глядишь в зеркало. И целый день ревет. Там мужики по пятнадцать, по двадцать лет работают. С работы идем, они выжрут по стакану и вот орут, вот орут... Там не орать нельзя. Глухие все на х... от такой работы. Я им говорю: "Чего вы орете? Тут же на улице дети". Идут, орут, матюгаются...
Я пришел к начальнику: "Ну тебя на х... с такой работой, я глохнуть не хочу". И меня в сборочный цех. По сборке двигателей... Вызывают в военкомат. "Поедешь на сборы в Вологду". А я в то время фуражку вот с таким бы козырьком надел, чтобы не видеть его, небо-то... Обижен я был ужасно... Миллион двести тысяч он тогда пошутил... Потом мастером по бетону работал. Вызывает меня подполковник."Ты, - говорит, - летчик. Зачем ты в пыли ковыряешься? Езжай в Тулу в Аэроклуб". Ну, я поехал. А там мне начальник говорит: "У тебя налета не хватает". А я ему: "У вас женщина работает, и вы меня не берете". Повернулся и пошел. Догоняет меня на лестнице. "Напиши, - говорит, - в Калугу, в Тамбов и вот сюда. Там, - говорит, - учебные центры". Ну, я написал. Думаю, откуда быстрей ответ придет, туда и поеду. Отсюда начальник, полковник Жаринов, сразу мне написал. Приезжай, дескать, но никаких квартир... Ладно, думаю, чего ждать? X... на х... менять - только время терять. Приехал. Четыре года на частной квартире жил. Сейчас - все нормально. Квартиру дали - две комнаты. Мне только что обидно? Теперь приезжает летчик, он только, извини за выражение, из м... вылупился, а ему уже квартиру. А я четыре года на частной страдал... Начальник, между прочим, полковник Жаринов из Монина. Сейчас - в запасе. С высшим военным образованием. Он имел квартиру там, в Монине, а тут прямо у нас в центре жил.
Тогда чего были курсанты? На самолетах еще летали. Мальчишки - девятнадцать лет. Зашумят они там, он прям в трусах бежит наверх и начинает их по-всякому... Человек был страшный. Он не любил людей. Ему кинуть за борт человека ничего не стоило. Он был засранец в этом отношении. "Ты, - говорит, - мне не нужен". Идиот был самый полнейший. У нас в центре забор, а в нем - дырка. Так вот он по вечерам встанет около дырки, курсант из самоволки лезет, он его - хоп! Он имел, сволочь, квартиру в Монине, а сам тут жил. Там семья, а тут он один. Делать-тоему не х... На танцплощадку ходил. Чего там - мальчишки восемнадцать-девятнадцать лет. Он туда приезжает на машине. Курсанты как увидят его - полковник! - и через забор. Потом летчики все поднялись, все-таки убрали его от нас. И все были рады - легче работать. И, между прочим, он, если речь с курсантами говорить будет, обязательно начнет с туалета, с уборной... И этим же кончит. Как штык. "Вот, - скажет, - вы приходите садитесь в туалет. Прежде чем сесть, ты наметься, наметься туда. Посмотри, а потом уже делай..." И речь дальше толкает... Вы все сволочи, и тому подобное...Ругает их, ругает... А в конце опять: "Прежде чем садиться, ты наметься, наметься. Посмотри, а потом уже клади..." Но он был хозяйственник. Кончил монинскую академию, "поплавок" имел. Умный мужик, хозяйственный. Но он нечеловечный был человек. Вот, как Хрущев ахнул про Сталина и про всех, и он мог так сделать... Еще бутылочку!..
Тут, между прочим, тогда и анекдоты были! Стоим мы на поле. В зоне курсант летает. Наш один инструктор смотрит, следит за ним... "Во... вираж сделал... бочечку... вираж... сейчас разгоняет на петлю... во-во-во... разгоняет... Падает! Падает!" - и к руководителю полетов. Руководитель полетов вылез: "Где?!" Мы тут все преобразились... А это -коршун. Он курсанта-то потерял, за коршуном следит. Издали-то не видно.Коршун чего-то там увидел и - вниз! А курсант уже сел. Подбегают к нему: "Товарищ инструктор, надо пересадку делать". - "Как?!" - говорит. А он уж сел. Вот мы тогда смеялись... " - Падает, падает..."
А то еще... Когда пересадку делали, раньше у самолета двигатель не выключали. А сектор газа, он тут, с правой стороны... Вот раз у нас один курсант вылезал, да и двинул по сектору-то газа. Ну, самолет и пошел, мать вашу... Учебный самолет. У него все отрегулировано было. Руководитель кричит: "Убирай газ! Убирай газ!" А там - никого... Ну, набрал он высоту метров двадцать пять, и - вниз! Готово дело. Руководитель думал, кто убился. А там - никого... Только самолет в щепки...
Но на самолетах я недолго шастал. Только приехал, через год переучились на вертолеты. Самолеты эти в Казань перегнали. А работать я люблю... В каком отношении - во всяком отношении. У меня вот и медали, их ведь за хорошие глазки не дают. Только эту зиму - неудачно.У меня курсант сломал лопасть. Я не виноват, а меня обвинили. Я допустил спешку, я допустил халатность... О! Гляди, лейтенант пришел. Моя милиция меня бережет... Я тут был у них прошлый год, в апреле. У меня жена уехала, я на радостях пошел в кино. Ну, выпивши был, конечно, хватя... Подходят ко мне их двое. "Вам здесь находиться не положено". - "Как это - не положено? - говорю.- Я билет купил..." Ну, вывернули мне руки, в вытрезвитель. А на мне синий костюм был такой, нормальный. Приводят в вытрезвитель. "Раздевайтесь!" - "X...! - говорю. - Не буду я раздеваться!" Ко мне старшина подходит лет так пятидесяти. Как боднет меня головой в живот, в поддых. Ну, я на диван у них повалился... "Ах, ты сука, - говорит, -падла... "Матюгами меня и по-всякому. И давай карманы выворачивать. А у меня, как нарочно, ни копейки. Ну, давай опять мне руки крутить... Я им говорю:"Давайте, крутите мне руки. Я не Мересьев, я простой летчик. Руку мне повредите, будете отвечать". Ну, они тут перепугались. "Иди,-говорят, - отсюда". И квитанцию мне дали на штраф. Я на другой день в сберкассу двадцать пять заплатил и квитанцию им приношу. Говорю старшине: "Дурак ты, - говорю, - дурак. На двадцать-то пять рублей мы б с тобой как выпили. И в ресторанчике бы посидели..." А он молчит. Чего скажешь?.. Теперь, как в городе меня увидит, первый здоровается...
Но я свою работу люблю. У нас тут центр - может, один или два на весь Союз. Ко мне курсантики со всего Союза и с Липецка, и не знаю откуда приезжают. Лет по девять не летают. Приходят и не знают, что такое вертолет. Вот и учи их. А если что, так сразу говорят: у тебя методика страдает, туда-сюда... Их сюда приезжает по сто пятьдесят человек, и ты за своих головой отвечаешь. А они, понятно, мужики женатые. А тут вырвутся - и давай! Чуть что - разбегаются на танцы в клуб. Официантки у нас в столовой тоже. Как новый заезд, так готовятся, ждут. Накрасятся, намажутся... Потом провожают, плачут. И опять новых ждут...
Так-то снабжение у нас в центре свое. Военная база. В буфете и колбаса бывает, и тушенка. Мы от города не зависим. Это тут ни х... в магазинах нет... Паршивый городишка... Вот зять у меня в Афинах, в Греции. Он там на нашей ГРЭС, в командировке. Он мне пишет оттуда: "Адриатическое море плещется за квартал от меня, но жратва здесь очень дорого. Чтобы мне один раз пойти в бар, я должен русскими деньгами платить три рубля с копейками..." Я ему все хочу письмо написать, чтобы он картинок переводных с бабами привез побольше. Как это ему в письме-то намекнуть, чтоб привез побольше сувениров. Вот у нашего полковника авторучка есть. Заглянешь, а там тебе - как хочешь, любые позы... Или вот еще для ключей... Это... брелки... Заглянешь туда, а там бабы голые. И телевизор есть такой маленький. Тоже на ключи нацепляется. Покрутишь, там тебе все - любые позы.
У нас в центре летчик один был - Комар. Между прочим, Владимир Михаилович Комаров, как космонавт. Мы его все дразнили. Так у него дядя - в Афганистане. Вот он его снабжал. У него такой телевизор был. А наш начполет, подполковник, морской летчик, он прямо его узурпировал. Отдай - и все! У подполковника своя "Волга". А Комар уперся. Не отдает. И уж он так его по службе гонял - целый год. То здесь ловушку сделает, то там. Душа у него была немного еврейская. Морской летчик. Отдай - и все! И допек. Прямо узурпировал. А Комар сам вроде такой тихий был. Из Владимира. Мальчишкой - карманник был. Первый вор. Вот такие лбы его слушались. Он без мыла в душу влезет... Давай еще по одной?
Не хочешь... Вот как бы мне это зятю в письме намекнуть, чтоб он сувениров этих побольше привез. На них спрос есть... Я вот сегодня утром с женой поругался. А, говорит, ты такой, ты сякой... Пошел пиво пить. Человек в жизни должен все испытать. Я считаю, надо жить широко. Хоть неправильно, а широко... А здесь городишка такой паршивый. Вот суббота, воскресенье - куда кинешь свои кости? Только что кино... Между прочим, о летчиках еще ни одного фильма нормального нет. Спокон веку... "Небесный тихоход", "Воздушный извозчик" - все не то... Вот кино бы надо сделать про авиацию. А то все про работяг. Ну что работяга? Он, конечно, вкалывает. А надо сделать про летчиков. Конечно, лишнего не надо создавать... Как простые люди, по-простецки. Наша работа топорная. Это как в опере поется: "Отрежем! Отрежем! - Не надо! Не надо! - Где мои ноги? - Вот они!" - медицина в белых халатах, Мересьев на койке. Опера - "Повесть о настоящем человеке".
А так-то я не жалуюсь. Все нормально. Летчик первого класса. Летаю - не летаю, мне сто тридцать выложи. Ну и полеты с курсантами - три рубля восемьдесят копеек час. Пятьдесят-шестьдесят часов в месяц. И премиальные. Квартира - хорошая. Ребятишек двое: девчонка в шестом классе, пацан на будущий год в школу пойдет. Жена у меня институт кончила. Английский преподает. Адье, адье, май нейтив шо... Байрон. Прощание с морем. У него вообще судьба неудачно так сложилась. Любил он там одну, пришлось ему с Англии уехать... А я тебе так скажу: жизнь - сложная штука. И мы, люди, в ней, как мошки. Будь ты там идеал или там феномен, а все равно ты умрешь. И хочется после себя что-то такое оставить.Чтоб о тебе вспоминали... Вот сын у меня растет... Но это - не то. Это идет родословная... Надо, чтобы что-то после тебя осталось - музыка или еще какая-нибудь чепуха... Да... Человек ценится своей простотой и своим железным характером...
Март 1971 г.
Клязьма тронулась
- Время это так было около четырех часов. В середине апреля. Нет, в конце, Клязьма уж тронулась.Мост, я помню, уже убирали, но еще машины шли. И вот часа в четыре звонят в милицию из больницы. Доставлен председатель Удольского сельпо с ножевыми ранениям и в лицо. Преступление есть. Я - старший следователь. Надо ехать. А как ехать, когда Клязьма уж тронулась?..
Мы когда подошли к мосту, с понтона только одна доска метров десять. И вот, так она ходит вверх-вниз. Надо идти. Участковый у меня в сапогах, а я в ботинках. Ну, перешли. Там уж лошадь ждет и возчик. Поглядел он и говорит: "Ты в ботинках не пройдешь. Вон участковый в сапогах, он пройдет. Бери, - говорит мне, - лошадь, садись и езжай на Иваниху и Золотуху. А мы, - говорит, - пойдем пешим". Ну, сел я в кошелку, поехал по дороге. Доехал до Иванихи. "Как, - спрашиваю, - мне попасть на Золотуху?" - "Прямо, - говорят, - через озеро".
Доехал до озера. А тама вода. Лошадь зашла, только седелку вижу да голову. Плывет ли, идет ли - не знаю. Я - назад. Вытащил лошадь. Тут, гляжу, идет почтальон в резиновых сапогах. Я его и спрашиваю: "Где дорога на Золотуху?" Он говорит: "Только, - говорит, - через озеро". Сел он тоже ко мне в кошелку, тронули мы. Но-о, милая... И тута вода в кошелку как хлынет... И мы оба по пояс в ледяной воде. Переплыли мы так-то,а уж на той стороне, на гриве, на бугорке три уж лошади ждут. Я все себя снял, выжал одежду, штаны, кальсоны. Сел на другую лошадь, и тут уж мы благополучно доехали в самое Удолье.
И сразу идем в контору сельпо. Там бабы, мужики курят, матерятся. Все ждут советскую власть. И участковый уж там. "Вот, - говорят, - его теперь, сукина сына, накажут". А преступника тута нет."Он, - говорят, - у любовницы". Пьет. Говорит, все ему нипочем. Говорит, Клязьма тронулась, теперь ни один дурак ко мне не сунется, не приедет. Я, говорит, теперь здесь главенствую. Что хочу, то и сделаю. Пьет, и бутылка у него тама, у любовницы.
А я в сельпо и говорю: "Бабы, выручайте, мне штаны надо, кальсоны..." Гляжу, уж все тащат. Штаны и валенки с галошами. Я надел все, а мое они сушить у печки повесили. А мужики тут вокруг сидят пьяные. Матерятся, курят. А мне брюки, кальсоны и валенки надели за первый сорт. Но наручники у нас с собой. Мало ли что он может начудить. Деревня ведь. Ну, как оделся, говорю: "Где он?" А мне бабы говорят: "Вон, через дом. Он тама пьянствует". А сами все боятся. Он им говорит: "Клязьма тронулась, теперь - все? Явас тут всех!"
Ну, мы тут же с участковым пошли в тот дом. С оружием, конечно. Может ведь оказать сопротивление. Пьяный...
Входим в дом, женщина в дверях встречает. "Не ходите, - говорит, - он злой. У него, - говорит, - ножик". Ну, входим мы, а он только нас увидел говорит: "Вота вы. А я вас не ждал... Клязьма, думаю,тронулась". Никакого сопротивления даже не оказал. Ну, взяли мы его и ножик взяли. На нем и кровь. А так-то он молодец. В одной руке бабу держит, в другой ножик."Не подходи, я тут главенствую!" А нам никакого сопротивления... Ну, там и матом лаются и бабы и мужики. Бабы там - во задница, сиськи во, лапа.. Одна, я видел, с мужиком чего-то у них получилось. Он ее матюгами, а она как ему двинет. Так он с крыльца и полетел кубарем. Пьяные ведь тоже все...
Ну, привели мы его в сельпо безо всякого сопротивления. Только что матом очень лаялся. "Как это вы? - говорит.- А я ведь вас не ждал." А уж и ночь. Я тут всем говорю: "Идите, - говорю, - спать". А сам сел допрашивать. А он у меня в углу сидит и матерится. А я ему:"Си-ди!" Он только вскочит, бросится, а я ему: "Си-ди!" Ну, и допрашиваю. А тут сестры его крутятся: "Тише, Леша, тише..." А он: "Я их сейчас!.." Ну, я ему тут наручники. Он же пьяный. Говорю: "Си-ди!"
Ну, допросили мы его. Люди тут уже поразошлись. А он в наручниках все больше чудит... А тута мужик приходит знакомый. Говорит: "Вы, - говорит, -отдыхать будете?" Я говорю: "Будем. Только по очереди". Я участковому говорю: "Иди, спи до двух часов". А он говорит: "Поить ведь будут". А я ему: "А ты пригубь не больше ста пятидесяти и в два часа будь тута".
А этот все чудит. Ну, я взял у него один наручник, а в стене здоровенная скоба, я его - к скобе. "Си-ди тута!" И лавку ему придвинул, хошь - спи. А у них лавки широченные. "Вот, - говорю, - тебе и кушетка. Спи, - говорю, - как у тещи в гостях..." Ну, в два часа квартальный мой, Санька, пришел, как штык. И я тоже в этот дом пошел. Там закуска, угощают. Как же, советская власть! Я тяпнул два вот таких-то стаканчика и спать.
Наутро прихожу в сельпо. Участковый тама. От стены он преступникауже отстегнул. Протрезвел преступник. Сидит он, башка у него болит. Присмирел. "Вот, - говорит, - вы - псы мировой революции явились". Так-то он нас назвал: псы, говорит, мировой революции. Ну, тут приходят мужики, родственники. Все - кум, брат, сват. "Надо, - говорят, - проводить его в дом. Пусть, - говорят, - закроет все. Чтоб был порядок". Ну, надо идти. Приходим мы к преступнику. У него в доме два стула, стол, лавка и кровать изо всей мебели. Все продал, пропил. На кровати драный матрас, одеяло и подушка. Уж не знаю, какого она и была цвета. Он все пропил. Только оставил, что считал необходимое. И только кошка у него голодная больше ничего. Ну, в дом набилось мужиков, все они с водкой. "Давайте, - говорят, - выпьем. Вы же - советская власть, выпейте, - говорят, - с нами". Пришлось выпить по сто пятьдесят. "Не выпустим, - говорят, - иначе. Мы, - говорят,- сейчас отдыхаем. Время, - говорят, - такое, Клязьма тронулась. Нам ни пахать, ни рыбачить. Не выпустим, и все тута".
А потом и говорят: "Можно, - говорят, - ему, преступнику, пятьдесят грамм?" - "Нет, - говорят другие, - надо ему сто. А то у него голова болит". Ну, пришлось разрешить. Выпил он это и тут забегал по дому. А они его схватили. "Си-ди! - говорят. - Харю набьем! Тебя, - говорят, - за дело взяли. Ты, - говорят, - стерва. Мы тебе, - говорят, - дали из-за того, что у тебя, сукина сына, голова болит". И все один мат тама, все с матюжками.
"Ну, - я говорю, - нам надо ехать". Мне говорят: "Три уж лошади ждут". Я говорю: "Куда мне три-то?" Говорят" "Надо". Дошли до сельпо. Тама три лошади. Первая - кошелка для меня, для следователя, чтобы ехал, как урядник. Уже все мое высушили, да бабы выгладили. Ну,оделся я, и ботинки сухие. "Но, - говорят, - уже нельзя озером ехать. Надо ехать только гривами, а там далеко".
Сел я в первые сани. Во вторые сани квартальный мой, преступник и возница. В третьи депутат, мужики и сестры его. Депутат на первом месте с возницей рядом. Он ему, преступнику-то, двоюродный. Правит тама всем. "Я, - говорит, - тута хозяин". А всего четыре класса. Деревня. Доехали до Заборочья. Мой возница у магазина стал. "Чего, - говорю, - ты?" - "Тех, - говорит, - подождем". Подъехали. "Тут, - говорят, - будем прощаться". Пошли за водкой. Преступник один, как сурок, в сене сидит. И квартальный сзади высится. У меня - никуда. Вытаскивают они водку и прямо в деревне посреди улицы начинают пить. Подносят мне первый стакан. "Выпей, - говорят, - у нас, - говорят, - иначе нельзя". Жареная рыба тут у них откуда-то взялась. Потом участковому моему подносят. Потом сами. Потом говорят: "Можно, - говорят, - ему пятьдесят грамм?" Пришлось разрешить. Он, преступник, выпил, только крякнул. "Братцы,- говорит, - а ведь меня увозят все дальше и дальше. К тюрьме, - говорит, - к Клязьме". А они ему: "За дело и увозят. Посидишь", - говорят.
Ну, опять и поехали все. Подъехали к Клязьме. Мы с квартальным свистим. На той стороне видят, что милиция. А уж лед идет вовсю. Кричим: "Давайте лодку!" Ну, лодка тут плывет, идет между льдинами. А они все, мужики, его тут целуют. "Прощай, - говорят, - сиди". - "Лет ведь пять тебе дадут". - "И за дело". - "Прощай, - говорят, -Лешка". Ну, тут лодка подплыла.Сели мы: преступник, квартальный и я. Тут я все-таки на него наручники надел. А то - что у него в голове? Сиганет он с лодки. Ему - чего. Я ему говорю: "Си-ди! То-то!" А то ведь он в ледяную воду прыгнет. А лодка идет, качается. Льдины кругом. Тронулась Клязьма-то.
Ну, кое-как доплыли мы до берега. А тама будка. Я в милицию позвонил, и тут же нам машину прислали...И здесь уж он прямехонько в тюрьму... И вот сколько это времени прошло? Значит, вроде день один. Сутки. Точно - сутки...
август 1970 г.
Пастораль
- Хорошо тут на речке лежать да загорать... Ты чего, в отпуске?.. А я вот пасу... Отдыхаешь, значит... Сам с Москвы?.. А ты на турбазу-то ездишь? Не ездишь? Ну, зря... там тебе и танцы, и что хочешь... Я вот сам ездил туда раз семь на мотоцикле... Да не везет мне, никак не везет... У меня уж и жена была, месяца четыре с ней жили... Такая поб...шка попалась, куда там... Ковровская, из Коврова...
Я когда не пас, зимой, там в Коврове в ресторане кочегаром.. А у нее там отец со мной работал. На мотоцикле... На четырнадцать лет была меня моложе... А отец на мотоцикле... Возил там мясо, муку - чего придется, мотоцикл с люлькой... А раз получаем мы с ним вместе получку, купили бутылку. Он и говорит: "Поедем ко мне выпьем". И еще покрышку для мотоциклая у него хотел взять... Он говорит. "Есть у меня покрышка..." Старенькая такая была покрышка... Пять рублей я за нее ему отдал... Ну, сели мы тогда на мотоцикл, поехали. Приезжаем. У него дома жена. Вот он и говорит: "Знакомься, Валентина, мы с ним вместе работаем, кочегаром он у нас в ресторане". Ну, сели, налили, то да се... А потом он и говорит ей: "Давай его на нашей дочке женим. Ведь он холостой, неженатый..." А ее еще, Альки, не было... Она потом пришла. "Она, - говорит, - тебе понравится..." - "Ну, чего, - говорю, - я не против". А тут она приходит, я как поглядел, у меня глаза и разбежались...
Ну; смехом, смехом, выпили эту бутылку... Она только зашла одну рюмку выпила... мы с ним после съездили еще купили... Покрышку я у него тогда взял, отдал пять рублей... Ну, он и говорит ей: "Пойди, Алька, проводи его..." Она и пошла меня провожать... Постояли мы с ней... "Приезжай, - говорю, - к нам, у нас место хорошее". Она говорит "Вот приеду, погляжу". Ну и говорит тут мне: "Дай закурить". Примечаешь? Семнадцать лет, а она уж курит... А она у них - я после узнал - б...а, б...а... Ну, я говорю: "Давай сойдемся, поживем года два, потом распишемся". И вот через неделю приехала она сюда... Поглядела все и говорит "Теперь я за вещами съезжу".
Ну, отец мой ее прописал, на работу ее устроили... Я тогда в Семынях пас... И тут началось... Тут уж она себя показала... Я пасу, я в неделю только три-четыре раза приезжаю домой ночевать... На мотоцикле... "Минск" я тогда взял... А тут у нее и таксисты, и кто хочешь... После уж соседи рассказывали. Подкатывает к дому такси, он посигналит, она выбегает в одном халатишке, только сверток у нее - там бутылка, и покатили в лес, туда к станции...
А со смены придет, поужинает, вроде бы спать пошла на терраску, а сама в окно... А там уж ее ждут... Раз я приехал, гляжу, у нее парень сидит... Ну, она мне говорит, вроде бы он к брату к моему пришел... Ну, я - ничего... А то еще директор школы у настут был, красивый мужчина, высокий... Года с двадцать седьмого, в таких годах... Потом его поймали, он тут с одной молоденькой... Года с пятидесятого, ученица его была... Вот он с ней два года дружил. А сам женат - двое детей... Ну, вот поймали их, его, конечно, от нас убрали... Вот и он тоже... Тоже с моей, с Алькой... Мне потом друг сказал, на пойму они ходили... Обнялись и на пойму... Отодрал он ее там, наверное... А мне чего? Мне не жалко, раз уж все ее... Я на него не обижаюсь... И в Ковров она все ездила вроде бы на день, на выходной... А сама два, три дня... На...... там досыта, приезжает... Я говорю: "Давай вместе в Ковров съездим". - "Нет, - говорит, - с тобой не поеду. Тебя, - говорит, - моя мать зовет. Поезжай к ней сам, а я с тобой не поеду..." Примечаешь? И отношение тут у нее ко мне плохое стало. Прямо ужасное отношение... Ложимся спать, а она мне: "Пошел ты на х..." Или там - к матери... Букарашек я на ней раза два ловил... И так-то ленивая по дому была. Редко-редко когда пол подотрет или по воду сходит, а так ничего не делала... Я уж и не жалел, когда она вещи собрала да и совсем уехала... Какая это жизнь? Вот говорят женщины, женщины... А я так скажу: другая женщина есть хуже мужчины...
Вот уж этот год, я уж тут пас, ко мне тоже из Коврова одна ездила...Полная такая... Ездила ко мне... А тут один мужик мне по пьянке говорит... "Я, говорит, - на работу лесом шел, и она тут шла... Ну, я с ней сговорился, сошли мы с дороги... "Я после у него трезвого переспросил... "Точно, - говорит, - было". Я и сказал ей: "Не езди ты ко мне больше". Ну, чего ей надо? Она и там в Коврове б....., и ко мне сюда ездит, и тут глядит, кому бы подвернуть?
Или вот Алька моя... Высокая, полная - у тебя б глаза разбежались... Ей семнадцать лет, а у нее...... Я с ней ничего и не чувствовал... А вот была у меня еще женщина, здесь живет... Старше меня лет на девять... С двадцать восьмого года... В таких годах... Килограмм была на девяносто... Высокая, мясистая, жирная... Вот с ней-то мне больно хорошо было... Лет восемь я с ней дружил... И еще в Коврове, как я в ресторане работал, была у меня одна Зоя... Тоже я с ней дружил... Лет на одиннадцать меня моложе, в таких годах... Черная была такая - мать у нее еврейка... Полная... Дружили мы с ней... Я и говорю ей: "Давай сойдемся, будем жить". И комната у ней была... "Нет, - говорит, - чтоб сойтись, ты для меня уже старый. Так дружить еще подходящий".
Или вот на турбазе. Познакомился тут с одной. Тоже москвичка, евреечка... Небольшая такая, полная... "С мужем, - говорит, - не живу, но у меня девочка - в Москве с матерью осталась... Ты, говорит, - завтра вечером приходи. Только надень белую рубашку, костюм да галстук, полботинки..." Ну, думаю, пойду...Может, у нее и комната есть, так можно сойтись да жить...
А тут к вечеру, как назло, баранишка пропал у меня в лесу... Пока его искал, куда тут пойдешь... Так и не пошел... А на другой день вижу, она идет с мужиком.. "Муж, - говорит, - приехал". А сама сказала, с мужем не живет... Примечаешь? Нет, не везет мне... Никак не везет... Ну, ты лежи, загорай... Я пойду... Мне скотину поглядеть надо. Хоть там у меня есть бабенка, присматривает... Приблудилась тут одна... Сама-то из города, а живет в сторожке на кладбище... Пропащая бабенка...
август 1972
Бульдозерист Федя
- Ты Федю-то, бульдозериста знаешь? Не знаешь? Таких чудаков еще и поискать... Парень - что ты! Медведь. Плечищи -во! Бицепсы... Он тебе что хошь свернет. Такой чудак. Мотоцикл взял в кредит, ИЖа. Ну, хера ли - ездить не умеет. Даром что силища в руках. Как ни поедет - поцарапается. Все с него летит, все с него падает. Ну, четыре раза сковырнулся, на пятый раз взял его, положил на землю, да и говорит сменщику "Вася, езжай!" - "Ты что, - говорит, - сбесился?" - "Езжай, тебе говорю. И все!"-
"Нет,- говорит, - я на него не поеду бульдозером". - "Езжай, - говорит, - а то, говорит, - сам сяду..." Ну, Васе-то чего, они поехал. Так мотоцикл в л я п у ш к у... Шутишь ли - бульдозером. Чего там от него осталось? " - "Давай, - говорит, - лопату. Я его сейчас, - говорит, - своей рукой закопаю..." И закопал. - "Все, - говорит. - Теперь я спокойный. А то, - говорит, - мне с ним жизни нет..." А деньги за него еще не выплатил. Четыреста восемьдесят рублей денег еще платить... Жена у него маленькая баба, а занозистая. "Ты, - говорит, - чего натворил? Ты, - говорит, - чего наделал? Я бы, - говорит, - его продала по крайности,а теперь - чего?" А Федя только: "Не надо он мне! Не было у меня его и не будет..." А баба все на него наскакивает. "Ты с ума, - говорит, - совсем сошел! Чего натворил-то? Еще ведь четыреста восемьдесят рублей..." И по затылку его, все по затылку...
Маленькая бабенка, а злобная... Он, Федя, только что отмахивается. "Ты, - говорит, - чего щиплешься? Ты, - говорит, - спасибо скажи, что я на нем никого не убил и сам не убился..." Двое ведь уних детей. "Тебе, - говорит, - кто нужен? Он или я?.. Подумаешь, - говорит, - четыреста восемьдесят рублей... Да я тебе больше заработаю, и заработал и еще заработаю. Я - бульдозерист. Я тебе и так и калым заработаю. А только я теперь спокойный. Нет его - и все! И мальчишки в металлолом не сдадут. Я только знаю, где он зарытый, да сменщик - Вася. А он не скажет... Мне, - говорит, - его продать - я не хочу. Мало ли чего, еще убьется кто на нем. А я не хочу кому-либо плохо сделать. А так я -спокойный. Своей рукой зарыл. А то еще убьется на нем кто, я переживать буду. Ну его!.. Не надо он мне". А она только: - "С ума сошел! Сбесился!" И вот по затылку его, и вот по затылку... А он: - "Да чего ты щиплешься? Дура ты и есть дура. Ты радоваться должна, что я живой остался. Ты чего жалеешь-то? Муж у тебя целый? Целый. Не покалечился? Не покалечился. Ну, и радуйся, дура! Ты чего щиплешься? А то ведь я и сам двину, так не обрадуешься".
Ау него - бицепсы во! Плечи - во! Медведь, говорю тебе, чистый медведь! Он так и следователю сказал:"Товарищ лейтенант, нет его и все! Списывайте его с меня. Я, - говорит, - на все согласен, только я на него злой... Черт, - говорит, - с ним, сИЖом. Я, - говорит, - не только что четыреста восемьдесят, я, - говорит, - всю тыщу заплачу, чтоб только его не было! Я, - говорит, -на нем четыре раза поцарапался, да пятый раз чуть лоб не разбил... Я гляжу, у всех мотоциклы, ну, и я себе взял. В кредит. Думаю, поезжу на нем. Как ни сяду - все лечу... Он прям бешеный... На нем только газ дашь, уже глядишь на спидометре - девяносто. И опять я лечу. Не надо он мне, и все! Я на своем бульдозере ездить буду. Он у меня десять километров - больше не идет. Я на нем спокоен. Еду я на нем по своей стороне, по обочине. Уж я ни в кого не врежусь. Если только кто в меня врежется... Так и то у меня вон - нож. Сам он и разлетится... А этого черта, его мне не надо. Я только сменщику говорю: "Езжай и все! А не поедешь, так я сам сяду. Все равно ему не быть. Не дам я ему быть, и все тут!" Только теперь я спокойный. Нет его! В ляпушку!..И никто его теперь не найдет. И вы, - говорит, - товарищ лейтенант, не найдете. Только что с миноискателем... А сменщик Вася вам не скажет. Нет его, и все. Я что положено за него заплатил. И еще заплачу. Мне не жалко. Зато я - спокойный. А жену не слушайте. Дура, она и есть дура. У нас двое ведь детей. А что, неровен час, я бы разбился? Куда б она с двоими-то? Кто ее, дуру, возьмет? Она радоваться должна... Баба, она и есть баба. Чего там она понимает? Я заработал и еще заработаю. Я бульдозерист".
Такой чудак, понимаешь. Таких во всем городе не найдешь... "Езжай, - говорит, - Вася, а то сам сяду. Я,- говорит, на него больно злой... В ляпушку! Не надо он мне..."
март 1971 г.
Прогулка по городу
- Вы меня простите, что я вас все время перебиваю. Мне и бабушка говорит: "Все-то ты, старый, перебьешь". Да только у меня все так-то получается... Я сейчас живу сильно тяжело. И, главное дело, вокруг меня людей нет... Вина я не пью, сплетнями не интересуюсь. Они старухе говорят: "Он у тебя юродивый, вроде бы падаль..."
Я только что хочу сказать, когда я строился, этих всех домов не было. У нас в улице один порядок был, а вот здесь - усадьбы... Мне место выбирал латыш-садовник Карл Иваныч Гайлис.Он у Сенькова-фабриканта работал. Мы с ним место выбирали, чтобы бугор и низина была. Теплицу хотели делать... Я ведь в одно лето - в осень одну выстроился... Вот этот-то дом каменный... Тут сильно умный мужик живет. Работал шофером на Севере, каждое лето в отпуск сюда приезжал - все заготавливал, кирпич, лес... А как все заготовил, так и совсем сюда перебрался... У него вот тут деревянный домишка стоял. Хороший тоже был домишка... Дедушков... Я вам только что хочу сказать, ведь городишка наш, с детства помню, был маленький. Совсем маленький. Главная-то улица была Шоссейная. После - Благовещенская, шла к собору. Потом Попова улица, Масляная, Песочная... Была Засерина улица, теперь - Красная. Потом гора была Барская. Теперь Трудовая гора... Наверху-то дом Рюминских. Я его еще покупал, этот-то дом. Там на усадьбе яма круглая. Сказывают, была долговая тюрьма. Купил бы я тогда, поля мы были бы мои...
Народ-то у нас больно дикий. Я помню, копали они там по Больничной улице узкие канавки. А там ведь шла Владимирка. И нашли кандалы. Я пришел, говорю: где же эти кандалы? А, говорят, в палисадник кинули. Никому ведь не надо. Больница при мне строилась. Город строил, управа. Доска была большая, все было указана кто строил, когда. Потом товарищи все буквы сбили, потому что все это сильно вредно... Там город-то и кончался. Смычка была. Дальше кладбище, церковь Здвиженская. На Здвиженье там репу торговали. Репная ярмарка. Репа - белая, розовая. Так поштучно и в кадках. А еще бывал у нас Вонючий базар, около собора. Это в начале Великого Поста. Бухмой торговали. Бухма, она как репа, только большая... Вывозили ее пареную, горячую в кадушках. И лоскутными одеялами накрыта. Одеяло поднимут, и - вонь! А все покупали да ели. Продавали деревянными блюдечками с толстыми краями...
У собора тоже кладбище было. Мне один говорил, там только попов хоронили. И верно - там три попа было. А при старом при зимнем соборе-то было большое кладбище. Помню товарищи все интересовались, грунт там какой.Яму вырыли квадратом между летней и зимней. И всюду были гроба. Я себе тогда один облюбовал - колода, но не круглая - квадратная. Вытащили мы его, на подсанки и в музей. Не знаю уж, цел ли он, я давно уж вмузее не бываю... Вот этот дом был поповский, Покровской церкви, крепкий дом. Здесь забор был весь каменный... Это вот кладбище, самое старое кладбище... Тут и тесть мой, и отец похоронены... Тут вот склеп был - генерал Неронов, предводитель дворянства. В корсете ходил, а жена у него была восемнадцать лет.
Здесь справа чугунная была часовня. Богашов. Я все дивлюсь, как они ее сковырнули. Уж больно велика была. Тут Сеньковский склеп.
Вот тут начальница гимназии Гидройц-Юраго. А вот тут против Алтаря была могила - священник острожной церкви отец Михаил. Крестил меня когда-то... Тут опять Сеньковские могилы... А вот тут делопроизводитель Иван Евлампиевич Протасьев. У него первый в городе трехколесный мотоцикл был. Мотор в дифере. Жена у него была красавица Дуня. Из его крестьян. Я еще мальчишкой был, у меня на улице отняли нитки и змей. Я пошел к нему жаловаться, а он мне двадцать копеек дал на нитки. У него в Татарове фабрика была. Я же потом ее с товарищами разорять ездил. Больно уж он девочек любил. Все ладони им щекотал пальчиком при здорованьи. Козочками называл... Мотоцикл он потом забросил, купил автомобиль с паровым котлом. Помню, во Владимир уедет на автомобиле, а уж обратно на паровозе... А теперь вот и могилы не найдешь...
Ведь что делали?.. Я вот своим, тестю с тещей три раза крест ставил, три раза крали... Последний раз уж принесли мне, купил с Введенской церкви. Загляденье - а не крест! Я к нему трубу наварил, до самого гроба, верно, труба прошла. Стащили! Я старухе говорю:хорони меня без музыки и без попов. Музыка - это только слюни в трубу пускают, и все только за деньги. И попы - тоже деньги... Мне этого не надо. Раньше-то оно не так было, а теперь вот угасло. Округа такая вся опачканная. И мне-то в этой округе чистым не пройти. Хоть рукавом, а все задену... Улица раньше эта так Кладбищенская и была. Асфальт тут недавно. Раньше булыжник был.
Я вот так-то иду раз с горки, слышу - на кладбище шум. Гляжу, расколачивают нероновский склеп. Богашовскую часовню уж свалили и чугун весь расколотили. А потом давай кувалдами памятники бить. Ведь это остались только те, что не поддались... А так в щебень все искрошили и на дорогу таскают. Перед асфальтом-то булыжник перебирали и добавили этот щебень. А уж асфальтировали потом...
Вот тут пониже Маштаков дом был. Он сюда льняную пыль в кулях все возил. Трясли ее и жваки да очески выбирали. Потом опять в кули и - на железную дорогу, буксы набивать. "У меня, - бывало, говорит, - концевая фабрика. Я, - говорит, - на казну работаю". Тут такие-то фабриканты были. Лапин был такой из Денисова. У него лисья шуба была. Он, как едет, у него всегда пола отвернута, чтобы мех видать... А у самого в фабрике труба к березе была привязана... Вот тут на шоссе у монастыря часовня была. Икона, я помню, риза богатая... И так вот кружка. Зимой мальчишки деньги оттуда таскали. В мороз мокрую нитку опустят в щелку, монета примерзнет, они и тянут...
А напротив портнихи жили - Разгуляевы, высоченные бабы...
Это собор монастырский был. Староста тут - Иван Михайлович Кашников состоял, а священник отец Алексей Гусев. Отец Алексей, помню, интересно служил. Начинает шепотом, шепотом... Громче, громче, потом - рявкнет, и как отрежет. Долго ничего не слыхать. Потом шепотом, шепотом - и снова как рявкнет! И вот так-то головой тряс... Вон там на горе кустарь жил, Роганов. Он пилы-напильники насекал. Помню, три копейки за дюйм. Не здешний был, приехал сюда какими-то случайностями... И ведь, бывало, насекает - даже не глядит. Курит, шутит... А вот калил потом всегда один, сам. Секрет у него был. Так никому и не сказал, даже сыну... И клетушка у него была такая маленькая. Я его пилы ни на какие не променяю. У меня и по сею пору осталось две штуки. А так-то весь хороший инструмент у меня товарищи в войну взяли... Я потом узнавал, как меня выпустили: кто взял, куда делось? Неизвестно. Они не стеснялись. Помню, еще у отца мастерская была, пришли к нам с обыском. Будем, говорят, искать у вас оружие. Искали, искали, а у нас мотоциклетные цепи были новые. Цепи взяли и ушли. А потом мне один сказывал из ГПУ: "Нам цепи-то и нужны были, никакого оружия. Нам только говорили, что у вас цепи есть мотоциклетные". Так вот.
Вот этот-то дом угловой Сеньков своей любовнице строил. Он всех своих любовниц обеспечивал. Тоже чудной был. Если, к примеру, в управу приедет и ему в уборную захочется, он едет домой - тут он не сядет. И за телефонную трубку ни за что не брался. Мне Карл Иваныч Гайлис рассказывал, клумбы он в саду любил расковыривать. Чуть что не по нем, он в сад и расковыривает клумбы. А назавтра чтоб все по-старому. Ну, уж они это знали, у них всегда в ящиках были запасные цветы... И в оранжерее персики тростью считал. Все равно сам ни одного не съест, все им достанется. А придет - считает... Уж потом видал я его, идет, калоши к ботинкам бечевкой привязаны. Да...
Вот Демидовский дом. фабрикант тоже богатейший. Староверы... В революцию тут матросы жили. Я к ним ходил гречневую кашу есть. Печь они мебелью топили. Раз пришел, а из печки ножки только торчат от хорошего стола. А матрос один на кровати лежит и из нагана в потолок дует. Только пыль летит... А каша у них хороша была. Я туда долго ходил...
Это - Штанин дом. Тут у него была казенка. Вином торговали. Вот эти ворота, столбы-то красные были - об них все сургуч оббивали и прям пили тут. А рядом - вот уж не помню - мужик ли, баба ли с лотком - закуской торговали... Тут трактир был - между Цепелевым и Беговым.Потом усадьба Матренинского. Вот мой-то отец пол-усадьбы у него купил с той стороны, сзади. Ведь как оно было. Дедушка наш сюда приезжий был. Винокур. Приехал на винокуренный завод. Там, где теперь скотобойня. Там дом был, недалеко... А вподвале у него мастерская.Чинили старые пожарные машины, самовары. Дедушка крестики лил, иконки под старину. С этого и начали. Станишка был токарный плохонький. Руками крутили. Купили деревянную сараюшечку. Потом бревенчатую. Сначала по сорок килограмм лили. Потом по шестьдесят. Сначала на древесном угле. Потом на коксе. Кокса нет -на антраците. Потом на мазуте да на нефти... Нефтью-то все и закончилось. А всего-то работали отец да мы - братья. Шестеро нас было. Как тут нас раскулачишь? Своя семья. А все равно задавили. Только что не оскорбляли. Ни разу никто буржуями не назвал... А задавили. Налогами. До того уж обложили, что не стало ничего хватать. У вас, говорят, еще должны бытьчастные дела, крестьянские...Ну, и пришлось нам тут волей-неволей кончать...
Я ведь только что хочу сказать. Ведь это плохо, коли мой сын не знает, как мой дедушка жил. Не годится это. А дедушка у меня чудной был. Запойный и в Бога сильно веровал. Иконы были, свечки, лампады горели... А сосед был там, где скотобойня, сапожник Антипов, тот был безбожник. Вот сойдутся они, книги разложат и спорят. Один божник, другой безбожник. А потом уж гляжу, оба плачут - Богу молятся...
Дедушка чудил много. Достаток был. Вот, помню, запил он. Глядим, во дворе в самой грязи лежит, только торчит борода. Подняли его, в дом внесли. Вымыли, уложили на кровать. А он опять в окно вылез, да и в борозде лег. И помирал чудно. Вот раз говорит: "Помираю". Ну, попы тут с маслом явились - любили его. Соборовали, все, а он и не помер. И другой-то раз так же... А на третий раз, помню, мать мне говорит: "Санька, дойди к дедушке, помирает ведь". Ну, я тогда шел гулять, думаю, успею. Домой пришел поздно - в молодые-то годы. А мне и говорят: "Санька, а дедушка-то помер". Тут уж по-настоящему, без чудес...
Вон там у нас богадельня была. Я еще помню, мы с отцом ходили сюда святить куличи. Тут прямо в комнате одной церковка была, а народу всегда полно. А тут вот колокольня. Колокол у них был прямо бешеный. Везде его слыхать! Здесь дядя мой жил. Самовары никелировал. Дело было хитрое, динамку рукой крутили. Бывает, самовар с одной стороны блестит, а в одном месте почернеет. А жена сбоку лезет: "Еня, а этого не подложить?" - "Да иди ты!" Она опять: "Еня, а вот этого?" До того доведет, что он самовар в окно, да ногами весь истопчет. А после хозяину новый покупает...
Вот тут англичанин был какой-то, Франц Федорович Кубик... И Клязьма ведь раньше не тут, дальше текла. Где теперь течет, тут огороды были Кокина и Березина, капуста и огурцы... Вот здесь Дикушин был, мануфактура... Когда их раскулачили, все свезли по лавкам торговать. Помню, часы Дикушина продавали. И просили недорого. Купить, думаю... А как он ко мне придет да и увидит? Нет, думаю, не надо они мне...
Вот тут наверху был Николаев - трактир. Беззубый был старик, вот такая борода... А если его кто дедушкой назовет, он прямо с лестницы спустит, в толчки... Здесь потом все собирались первые большевики. Биллиард там у них стоял еще от трактира... Было тут два постоялых двора - Рукавичников и Березин... На углу - чайная Шульпина Михал Федорыча. Чай, пиво тут тебе не один сорт. В кухне тебе что закажешь - сделают. Была вот тут какая компания. Отец мой, Василий Семенович Булатов - бондарь, Тимофеев - извозчик, Маштаков Егор Филипыч - это концевая-то фабрика, что на казну работал, и Лбов Василий Михалыч... Они уж каждый день сидели, стол у них был специальный. Бывало, Маштаков придет к нам в мастерскую, молча постоит, в дверях.
"Ну, - говорит, - я пошел". Повернется и пойдет. Отец одевается и за ним... Только воротится, а тут Булатов: "Сергей Михалыч, у меня только гривенник, пойдем пропьем". И опять отец идет. Ну, уж вино не пили. У них только чай, булка, колбаса, сливки, ли- мон... Ну, селянки тут разные. Тут уж поди, к гривеннику-то рубли прибавляются... А встают из-за стола, половой денег не спросит. Встали - пошли. Люди известные...
Тут-то вот не так давно ко мне приходит один, да и рубль кажет этот металлический с Лениным. Видал, говорит, монета? Ну и что, говорю, твоя монета? Полкило луку...
В этом доме один чудак жил. Портной Орлов. Сидит у окна, потом откроет окно, по пояс высунется, пропоет петухом и опять закроет... А раз в церковь к Кресту спорок с шубы принес. Положил и все...
Тут были у нас известные люди. Монах был один юродивый - Антип Гнет. В Крещенье в фонтан залезал. Егошка Хитрый, Мишка Чирьев... Его спросят, бывало: "Минька, а ты в Бога-то веришь ли?" - "А как же, - говорит, - я ведь с Христом в одной кузнице работал". Ну а главный чудак был у нас Сикерин, парикмахер. У этого с японской войны все Георгиевские кресты были... Вот, бывало, наточит бритву, у него клиент сидит, а он свою принадлежность на стол положит и пробует, остра ли бритва... Раз пьяный попал в полицию. Утром жену туда зовет. "Настя, Настя, принеси мне все медали". Она ему принесла, он надел и говорит: "Без музыки домой не пойду". Так ведь и шел с музыкой... Раз намылил одному лицо. Только собрался брить, а тут ко всенощной ударили. Он бритву кладет. "Настя, Настя, я пошел..." - "Ты хоть человека добрей!" Куда там... "Уж звонят, - говорит, - я пошел..." А часовня эта, где мясом-то торгуют, еще от собора осталась.Снесли его в тридцать втором... Это все я сильно хорошо запомнил. Первое дело - колокола. Привезли они домкраты, лебед-ки, тали... Первый-то колокол большой, кажется, лебедкой стащили его. Я тут был. Вон стоял около молочной-то лавки. Как же мне тут не быть? Он как ударил в землю, тут двойные двери внизу были - настежь они открылись. Вот на том-то доме труба кирпичная упала. Помню, у них один колокол об другой стукнулся. Так вот только по такому кусочку отскочило... Ну, потом привезли из литейной шар с бревном, с блоком, чтоб колоть их да в машину грузить...
Авоттут, помню, розвальни стояли, на них все ризы с икон складывали да возили в музей. Слесарь знакомый мне говорил, его нанимали резать их, ризы-то. Потом в комнату заперли да обыскали, не взял ли камешков... И тут уж в соборе все иконы без риз стали, и склад там сделали - рожь, масло, пустая посуда.
Я тогда на хлебзаводе подрабатывал. За кусок. Раз, помню, нам понадобились шесты для лопат. Нет лопат, да и только! Пошли прямо в собор, взяли шесты с хоругвей... А раз днем захожу я, паникадила уж не было, вижу, стоит в левой стороне собора один в пальто и в шапке. Видать, мастер. Стоит и смотрит. Я потом-то с ним подружился - Василий Рафаилович Уваров. А тут уж смотрю, они и бочки навезли, и соляную кислоту в бутылях. Золото с иконостаса смывать. Он в ГПУ тогда работал, а у самого в мирное время была иконостасная мастерская... Жена у него была крупная женщина, сам-то он маленький. Татьяна Александровна звали... Я к ним все чай ходил пить с булками. Ему ведь в ГПУ и хлеб, и молоко, и разные пряники, все у него было... Раз, помню, его жена смеется, мне говорит: "А ты думаешь, он в Бога не верует? Сам иконостасы смывает, а сам верует. Вон у него иконка-то, молится". И верно, смотрю, висит у него медальон под цвет обоев, и не заметишь. Так вот он кислотою все смывал, потом эту грязь в бочки и отправлял в Москву. Один из ГПУ, помню, спрашивает "Василий Рафаилыч, много ли смыл?" А он только и сказал: "На трактор ,- говорит, - хватит".
Зима была, в соборе-то холодно. Я ему еще сделал тогда водогрейку, трубу в окно. А чтоб труба поплотней к дыре, венец с Николы мы сняли да и приладили... Он после нас в Кронштадт поехал, смывал там. Письма мне писал оттуда... Да... Потом ломали иконостас. Он у нас был высокий... Помню, оторвали его, он так-то выпятился и рухнул... Колонны уж сильно красивые были, витые. Две в музей взяли, две в театр. Врата Царские я отвез на подсанках в музей... Ангелы были с репидами да Евангелисты - фигуры в человеческий рост. Теперь все пропало.
И вот стали они собор бурить - бурили дырки в стакан диаметром вокруг всего собора... Потом заложили взрывчатку... Я вон там стоял, около речки. Как рванули, так вот я сам видел, он весь приподнялся. Может, с полметра просвет был, и опять сел на место. Я правду говорю. Ну, они тут второй раз бурили и опять рвали... На второй раз он развалился крупными кусками. Тут стали разбивать - кому чего понадобится. Часть камней помельче - в речку, а часть - вымостили тротуар... А фундамент был сложен у него из булыжника на глине... Потом за колокольню взялись... Хотели подбить да повалить. И до того ее додолбили, что подойти к ней страшно... Потом уж приехали солдаты, что-то положили - она и повалилась... Ну, тут мы на нее набросились... Нам железо было надо. Я только что хочу сказать, я вот сейчас вернусь еще раньше.
Помню, в семнадцатом году тут вот на площади был какой-то митинг... А я глядел с колокольни, и еще один. Кузнец такой был из поляков, Нарушевич. Он мне тогда, помню, и говорит: "Эх, до чего же тут колокола хороши, сколько всего понаделать из них можно..." А пришло пло-хое время - ни жрать нет, ни дров, пошел он с салазками за Клязьму, за хворостом. Да и попал в полынью прямо с салазками... Так и не нашли его. Вот и суди, как хочешь... Из этих-то, кто собор-то ломал, - ни один человеческой смертью не умер.Один в Иванове ослеп, Карлов, начальник милиции. Другой под поезд попал, кишки на колесо намотались... Я вам только что хочу сказать. Я теперь в твердом убеждении, что от таких слов, как - Бога нет, - надо отказаться. Что это значит - Его нет? Это что, как колбасы, что ли? Раньше она была в лавках, а теперь нет?.. Эх, и колбаса ведь была! Вон дом-то - Иван Александрович Александров, колбасник. Раньше, бывало, постучал к нему хоть в десятьчасов. Только спросит: "Чего тебе?" - "Иван Александрович, мне бы фунтик колбаски..." - "Какой тебе?" И сейчас он вынесет. Рабочие у него были, а торговал всегда сам. Рябой он был, а румяный...
Теперь давай туда перейдем, там мой автобус останавливается... Раньше-то я к себе на гору бегом бежал. А сейчас уж не могу - ноги не идут... Я ведь раньше какой здоровый был. Картошку, помню, три раза жарили - не раскусишь ее. Так я ее целиком глотал, слыхать, как она идет. Я ведь вот на что дивлюсь. Былу меня один ученик, токарь. Потом пошел в армию. Из армии в коммунисты. Потом в механики. А потом уж кричать на меня стал; "Я тебе денег платить не буду!.." Вот если бы я посмотрел на такие ихние заслуги... Вот бы мне рассказали, есть, дескать, остров такой в океане, там лес и все такое, и все коммунисты туда поехали, и живут там вторую сотню лет и свой хлеб едят. Вот это были бы заслуги. А то ведь нет этого.
Раз, помню, на Пасху был я у отца-покойника и разговорился с двоюродным братом. Он мне и говорит: "Мы теперь все построим и все сделаем". А я ему: "Ничего ты не сделаешь". - "Как не сделаем? А вот мы уже сколько построили..."А я ему: "Ну, и что вы сделали? Ты только кирпичи сложил. Ну, даже ты его, кирпич, этот обжег. А глину ты сделал? А воду- ты? А огонь ты сделал?.. Вот и выходит, что ничего вы не сделали, ничего не построили..." Я на одном стою: я - ничто... Надо знать,что ты - ничто, а тобой кто-то руководит. И руководитель этот с тобой в любой момент что захочет, то и сде- лает.
Человек - ничто, вся мудрость его, все затеи - все ничто... Вот они запустили грузовик за щебнем на Луну... И это еще не чудо, что американец на Луну залетел да там прошелся. Это еще не фокус! Вот был я на похоронах, вот бы спросить покойницу: как тебе там? Не жмет ли чего?.. А она б ответила. Вот это было б да!.. Так ведь не ответит она тебе...
Я только на одном стою: пока есть мое "Я", а придет время, и эта буква задвинется в самое последнее место... Вот он, мой и автобус... Вот давеча они по радио передавали про стройку одну. Хвастались. Там, дескать, все нации работают - и русские, и мордва, и татары... Так это они что же, Вавилонскую что ли башню строят?.. Я только на что дивлюсь... Нам все дано: и фабрику строить, и атом, а только нет у нас мирной жизни. Все у нас какое-то подвижное, никак не установится... Надо, чтоб все твердое было. Ну, плохо - так хоть плохо. Все должно быть неподвижно... А если оно с места на место передвигается, значит, оно непостоянное... Все было... Были керосиновые фонари... Фонарщик с лестницей, с ежиком, с керосином... Стекла чистил, керосин добавлял'... Все ушло... Была булыжная мостовая, был гром тарантасов беспрерывный... Сейчас, сейчас - сяду, полезу... И сколько я всего знал, сколько вот этими руками сделал... И никто у меня ничего не взял...Мне не жалко своих годов, мне жалко время, когда я жил... Сажусь, сажусь... Сел уже... Я только одно знаю: корова не жеребится, а кобыла не телится...
декабрь 1970 г.
А вот у нас в Ялте
В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II ЗАЛОЖЕНО ЗДАНИЕ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 1903-го г. 3-го ИЮЛЯ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ П. А. НЕРНОВЕ И ЧЛЕНАХ И. Г. ПРОШЕНКОВЕ и Б. А. ШУМИЛОВЕ
ОКОНЧЕНО В ОКТЯБРЕ 1905 г. ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ А. П. НИКИТИНЕ, ШУМИЛОВЕ, ПРОШЕНКОВЕ И ПРИ УЧАСТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ П. А. НЕРОНОВЕ, С. И. СЕНЬКОВЕ, Н. И. ЮШКОВЕ, А. В. ДЕМИДОВЕ ПО ПРОЭКТУ И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ АРХИТЕКТОРА С. К. РОДИОНОВА.
- Ты чего тут читаешь-смотришь? К кому пришел? С какого отделения? А то давай, я позову... Ну, как хочешь. Слушай, друг, будь другом, сходи за бутылкой... Тут рядом, сука, два шага... Мне в халате нельзя, мент прихватит, курва... Держи. Два рубля, падла, и рупь семьдесят мелочью... Ты не сомневайся, все точно... Постой, погоди! У тебя котел есть? На твоих сколько? Двадцать минут? X... на могилу! Рано еще... Тут продавцы все суки, падлы до одиннадцати ни за что не продаст, такие вонючие, курвы... Башка трещит - не могу...
Вчера пять стаканов зах...л: буль, буль, буль, буль - нештяк! К Мирке, к медсестре, курва, прихожу, а у нее спирт йодом разбавлен, чтобы, сука, не пили... "Налей стакан". Она смеется, падла, наливает: "Не выпьешь". Я ей: "Дай, курва, порошок аскорбинки - кисленький, закусить". "Бери". Высыпаю в стакан, весь йод, падла, на дно, я: буль, буль, буль, буль - нештяк! Она, сука, полтинники выкатила...
Еще тридцать минут ждать... Поносный город, падла, водки с утра не купишь... А вот у нас в Ялте, курва, директор магазина Нинка была - когда хочешь бери, только, падла, плати... Помню, ее судили, смеху было... У нее мать, сука, померла и ей трехкомнатную квартиру оставила, а милиция, падла, хотела квартиру у нее оттягать... А ничего не сделаешь, курва, завещание... Ну, участковый на нее: "Ты проститутка!" Она на суде их понесла; "Ты, сука, видел, чтоб я деньги брала?" - "К тебе каждый день новый ходит". - "А твое какое дело? Я встречаюсь с отдыхающим, он меня удовлетворяет, а вам, б..м, завидно?" И матом их... "Я с вами, с местными, дела не имею, вы тут все бухарики!.." И понесла, и понесла...Ну, пятнадцать суток ей судья дал, и х... на могилу, квартира так ей и осталась... Или моя теща, курва, хотела меня выписать... У самой, сука, двенадцать комнат, а прописаны только она, Томка-жена, дочка и я... Она, падла, только сунулась туда; "Хочу его выписать". А они ей говорят "Не суйся, а то он утебя три комнаты оттягает... "
Семь лет я там жил, сука, пока они, курва, меня не заложили... Вот где - жизнь! Это тут городишка, падла, паршивый... Там - кто в магазине, кто в санатории, кто - на винзаводе, все комнаты сдают... Там деньги не считают. Червонец - червонец летит, сотня - сотня... Там я из дома не выходил, чтобы у меня сто рублей в кармане не было... Помню, идем я и Игорек Пятак... Ему, сука, потом расстрел дали... Семнадцать лет парню - два метра роста, кулак с твою голову... Он тогда таксиста, курва, насмерть, кулаком ему зах... А - нештяк! А как получилось?. Таксист этот жену бросил. Молодая, падла, баба, лет двадцать семь ей, с другой снюхался... Ну, а той, сука, обидно, - таксист! Они знаешь, как в Ялте имеют? - Ну, она к Игорьку, курва: "Пойдем со мной в ресторан посидим..." Ну, х... ли, парню семнадцать лет: "Пойдем". Приходят... А она, падла, знала, что там муж ее гуляет с другой бабой... Ну, сидят они, она глядела, глядела на мужа и говорит Игорьку: "Если дашь ему сегодня в рожу, завтра я опять тебя в ресторан поведу". Ну, х... ли, парню семнадцать лет... После кабака он за ним, сука, идет - таксист бабу уже проводил... Он сзади подходит" "Коля!" - "А?" - тот поворачивается, а Игорек ему х.... - в рожу!.. Два, курва, шейных позвонка сломал - нештяк! И Коля лежит с одного удара. И ничего у него никто не тронул, Эдик только, жиденок такой маленький, после уже котел золотой - часы у него снял... Ну, месяц прошел, полтора, падла, кто убил - неизвестно...
Похоронили его, Иван Иваныч, директор таксопарка, хоронил, таксисты все... И тут Эдик идет играть... Проигрывает все деньги Валентину, сука, и говорит "Золотой котел за сколько дойдет?" Валька, курва, говорит "Полста". Эдик ему: "Мало". - "Больше не дам..." X... на могилу, проигрывает и эти полста... Идет, сука, домой, берет, падла, котел и отдает, курва, Вальке... И, мудак, не сказал, что котел этот темный... Валентин, курва, надевает этот котел и ходит...
Ну, тут как-то бухарили, он попадает в милицию. Они там видят у него этот котел, номер. - "Ага! Где взял?" - "Мой", - говорит. "Ах, твой?" - и х...., шьют ему убийство... А тут таксисты узнают, что котел этот, сука, нашелся. Приезжают к милиции, запрудили всю улицу, на работу не едут: "Отдайте его нам!" Начальник выходит: "Тихо, - говорит, - еще ничего неизвестно..."Ну, Валентин видит такое дело, падла, шьют ему убийство... "Я этот котел выиграл". - "У кого?" - "У Эдика". Жиденка, сука, раз! Ну, он крутился, крутился, х.... - дали ему там как следует, подвели м...е к бороде... "Мой котел, - курва, раскололся: - "Это я его убил". Ну, милиция: "Кончай, м.... смешить". Жиденок, сука, метр пятьдесят роста, а там два позвонка сломаны, в протоколе записано тупым орудием... Ну, он опять колется: "Это - Игорек Пятак..." Ну, а у нас в Ялте, сука, все на виду... Садятся мусора в машину... "Куда едете?" - "Пятака брать..." Подъезжают они, курва, к дому, а там уже таксисты стоят... А Пятак, сука, стоит в дверях с топором... Х...., падла, делать? Один таксист говорит "Я сейчас съезжу домой, привезу, курва, ружье, застрелю его..."
Так мусора, падла, войска с Ай-Петри вызывали... Потом уже милиция кольцом его окружила, и так вели... Таксисты же по милиции стрелять не будут... А брат старший у него Мишка Пятак, сука, им с Андрюшей по восемь лет дали... Они, курва, капитана одного КГБ расх....., удостоверение у него, пушку забрали... У него-то вообще маршрут был Ростов - Ялта, потом на теплоходе в Сухуми, он по своим делам ехал... Но кегебешник есть кегебешник... Идет он, падла, по набережной и слышит, ребята двое набухарились и про валюту, про то... Ну, он, сука, подваливает "Где бы тут выпить?" Они его в Южный. Ну, зах...... еще бутылку на троих - нештяк! Выходят, подводят они его, курва, к кусту - тут, прямо у порта, и тут Андрюша, падла, ему х........ А он стоит сука, на ногах устоял... Хотел он Андрюше зах......., а Миша Пятак, два метра роста,- ему в челюсть. Он с копыт и отключился... Потом на суде, курва, говорит "Только хотел применить прием самбо к Андрею Переливченко, как Михаил Пятаков применил ко мне неизвестный прием каратэ, и я потерял сознание..." А какой там, падла, прием? Просто зах..... ему кулаком - нештяк! Игорек, Мишка Пятак - ребята, курва, были... У них отец после Котовского первый совершил побег из Симферопольской тюрьмы... Они с двоюродным братом тогда, сука, после войны приходят в Ялте в церковь. Хвать этого попа, курва, за шкирку - в туалет и раз его туда головой: "Где у вас тут золото?" Он молчит. Они его еще раз...Ну, он, падла, сказал им, где золото, а они его все равно там утопили, сука... Их берут, обоим расстрел - нештяк!
А там в Симферополе в тюрьме студебеккер стоял, мотор у него заведенный. Пятак конвойного головой, вскочил в кабину - х....! - ворота сбил - конвой только полтинники выкатил... Двенадцать лет его не могли найти. Потом нашли в Ленинграде под фамилией Черный, директор треста ресторанов...
Вот у нас в Ялте кабаки - Южный, сука, Ореанда, падла, Украина, курва, иди, куда хочешь... В Южном скрипач у нас был, мадьяр Додик. Его, сука, приезжали слушать с Одессы, с Москвы, с Киева...Он золото слишком любил... Ну а ребята решили его проверить. Есть у него золото? Прибегают к нему, курва, вечером в Южный, во время игры: "Дод Иваныч, дом горит!" Он все бросает, бежать... И на полдороге, х...., инфаркт, помирает... И во время похорон его обчистили, падла. Жена, дети на кладбище, а тут среди гостей зашли два черта... Так в костюмах, все чин чинарем... А родня тут на кухне закуску готовит, сука... И готово дело - нештяк! Ты чего на меня смотришь? Ты, друг, не бзди, я не заразный... Экзема, она, падла, не передается... А мазь эта, на ушах - итальянская кастеляни... Ты не бзди...
Я тут три дня назад ночью, сука, в окно - и к двоюродной жене! Дочка у нее уже спит, бутылку поставила, я один стакан - буль, буль, буль, буль, второй-буль, буль, буль, буль - нештяк! Назад надо, в палату, а тут ..... горячая - куда тут, остался на всю ночь. Ночью вспотел, утром просыпаемся, обе подушки красные от мази! Утром проскочил в палату, переоделся - нештяк!.. Х.... тут за больница - две экземы, три псориаза... Вот я в Москве лежал на Пироговке - там больница... Сифилитики прямо с нами в одной палате, курва, лежат. Они только первые два дня опасные, их в изоляторе, сука, держат... А как первые уколы им...
... Ну я, курва, как представил себе это... Как ей, падла, зах..... А так идешь с ней в Ялте по базару, грузины языком цокают -ца, ца, ца... Им там не дает никто, местные с ними не вяжутся, отдыхающие тоже... Он тебе за бабу сто пятьдесят заплатит и еще в кабак сведет... Им главное, чтобы у бабы попа была большая. Уважаю их - коммерсанты. Умеют деньги делать... У них эта спекуляция прямо в крови... И в карты они играют. Их там всех Алик Осетин делал. Они его и пришили, восемьдесят тысяч новых он у них выиграл. И кто убил - неизвестно... Знали, сука, только что на игру пошел... И восемьдесят тысяч, курва, не тронули, так у него и нашли... Это не Ялта, а золотое дно. Или там поезда, падла, с вином гоняют. Он, сука, за один рейс двадцать-тридцать тысяч имеет. Я с ним, курва, один раз ездил. Во Владивосток... Х...., у него такой шприц - на пять литров и игла длинная, как долото. Он цистерны не берет - на х... нужно - только бочки. Состав запломбированный, ключи все у него... И пустые бочки у него едут. И вот он начинает... Подходит, падла, к бочке, чуть собьет с нее обруч и туда зах...... этот шприц. Пять литров х.... - раз, пять литров х.... - два, пять литров х.... - три, и в ведро сливает. А в эту бочку он пятнадцать литров воды, даже не кипяченой... И мыло у него есть, и горчица. Он мыло с горчицей смешает, залепит эту дырку, обруч на место, и она, падла, не течет... И так он по всем вагонам к каждой бочке... А на станциях он не торопится. Сутки состав стоит, это ему хоть бы х... Он меня оставляет, а сам на базар. Машины приходят, х.... - десять бочек, х.... - двадцать... Оно там по рупь семьдесят, а он его им по рупь двадцать... Едем дальше... До Владивостока двадцать суток... А туда он приезжает, там шерсть эта японская - кишки, какие тебе хочешь. Он тройку чемоданов набивает этой шерсти, билет на самолет - и дома. И он таких два рейса в год, сука, больше ему не надо...
Пусть он там плохой работник, курва, считается... Он говорит: "Я не хочу зарываться..." В Ялте там в филармонии контрабасистам этим, ударникам, сука, носильщик полагается... Мне Костя-ударник говорит: "Чечен, поедем со мной на два месяца в Среднюю Азию. Девяносто рублей зарплата, гостиница, падла, командировочные, курва..." Ну, узнал я, сука, какие города - нештяк! Два месяца с ним, курва... Х...., я там и не таскал. Там приедут, падла, с аула на лошади, отвезут его бандуру... Двенадцать килограмм анаши, сука, плана привез оттуда. Там она сто - сто двадцать рублей килограмм, а у нас в Ялте - тыщу... Х...., рупь - баш, а в нем грамм... На два косяка... Но я ее оптом, по семьсот рублей зах...... Пусть женят, что хотят... А вот морфушка, сука, морфий кристаллический - восемьдесят рублей, курва, грамм... Вот бы его падла, зах........ А план, х...., я его сам курил. Под этим делом, сука, в техникум запросто сдал, только он, курва, мозги сушит,через месяц - х.... - меня выгнали... Так и в дурдом попадешь, падла... Нет, водочка лучше, стакан зах... - буль,буль, буль,буль - нештяк!.. У нас тут один, курва, лежит, его жена в дурдом сдала. Он, сука, месяц бухарил, она его, падла, и сдала... Ну, он рассказывает, там и психи... Полтора месяца там лежал и ни разу в домино не выиграл... Почти целый день с ними, курва, играл и ни разу не выиграл... А здесь х.... за больница?
Сестры все суки, падлы, Мирка, Танька от мужей гуляют... Кормят, курва, дерьмом, повар, падла, домой сумками таскает... Х...., я это дело знаю, у меня Томка-жена в Ялте, курва, шеф-повар была в санатории Крымская Здравница... Я и понятия не имел, как это в магазин ходить... Только что за хлебом, а так все дома есть...
Я, сука, вчера звоню двоюродной жене, готовь четвертак, на той неделе зах.... меня отсюда...
Мне теперь, х...., по больничному за полтора месяца рублей тридцать дадут... Пятьдесят процентов алименты, иск, курва, ох... Пять жен, сука, шесть детей. Я эту работу, падла, порол... Свадьбы я только две играл - с Тамаркой вот с Ялты и еще с Ленкой...
Х...., первая у меня была жена - мне пятнадцать было, ей семнадцать. Парню уже пятнадцатый год. Она, курва, с меня даже алименты не тянет... От второй у меня - близнецы... Была, сука, лыжница. Я ее подначил в Лужниках с трамплина прыгнуть, х...., оба под бухарем были. У нее ноги разъехались, так кишки и вывалились... Потом ее родители приезжают к отцу моему: "У нас детей больше не будет, отдайте нам.." Мне девятнадцать лет было, я не хотел. Отец мне, падла, говорит "Дурак, куда они тебе?" Ну, отдали мы их...
Эх, Ялта, Ялта! Мне, сука, сто сорок вторую шили, валюту и мошенничество. И потом, курва, пять лет не прописывать в Ялте и в портовых городах Черного моря... Ну, х... на могилу, я их порол... Все равно пропишут - женюсь!.. Там это не проблема, кого пороть всегда найдется... х...., там девочки с четырнадцати лет все...
Стой, сука, кто там идет? Танька, падла? Сегодня, курва, Танька дежурит? Ну, я побежал... Давай на х... деньги... Она мне сейчас стакан спирту, сука, нальет, я не я буду... Прощай, друг!.. Сейчас: буль, буль, буль, буль - нештяк!
сентябрь 1971
До основанья, а затем...
- У нас тут материк - воздух хороший. Это там, за рекой, болото. Давление болотное... Там тебе и комары, и что хочешь. А тут - бугор. Там, помню, поп за рекой совсем было зачах, заболел. А перевели его к нам, к Архидиакону, так разжирел, румяный стал. Летом тут благодать, умирать не хочется. Тут бугор - сады, что хочешь тебе растет...
Не знаю, чем вас и угостить. У меня хозяйки нет. Все один живу, двенадцать уж годов. Пенсия больно мала - тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек. Чего там за пенсия у водников... Вот бы так-то написать мне биографию. Мне и военный комиссар, полковник Кривченко говорил: "Напиши ты биографию, я тебе хоть шестьдесят рубликов, а сделаю". Ведь я - балтийский моряк. Нас, балтийских моряков, ни хера в городе-то уж и не осталось. Один еще ходит - придурковатый.
Как сказал Владимир Ильич Ленин: "Балтийские моряки - оплот революции. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной..." Я ведь самолично слышал его - Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции...
Сейчас картошки начистим, наварим. Я огурцов достану... Когда у меня первая-то хозяйка была, была корова, овцы, поросенок... А теперь - куда они мне? Только кур десяток, петух одиннадцатый. И ни хера они сейчас не несутся. Весной-то неслись, куда там...
Вот бы все бы написать, как оно было. В семнадцатом-то году. До основанья, а затем... Четвертого июля к нам в Кронштадт приехал председатель Павел Ефимович Дыбенко центрального комитета балтийского флота. На митинге на Якорной площади он пояснил: "Вождь нашей революции Владимир Ильич Ленин должен скрываться от ищеек временного правительства в убежищах-подвалах". Мы утром собрались с военных судов, и многочисленный отряд отправились в Петроград на буксирных пароходах. Высаживаемся у Николаевского моста. Прошли Невский, Литейный, Загородный, Забалканский, Обводной канал к Таврическому Дворцу, где занимала фракция большевиков. Донские казаки, которые охраняли временное правительство, преданные временному правительству, пытались занять Таврический Дворец. Налетели они на нас на Литейном проспекте. Улицы Петрограда обагрились кровью. Казаки размахивали направо-налево шашками, многих матросов ранили. Улицы Петрограда обагрились кровью. Нами командовал Стогов, батальонный командир. Мы стреляли по ним из винтовок. Они вторично на нас налетели. Керенский дал тогда приказ арестовать Владимир Ильича Ленина. Дзержинский был тогда арестован. Мы ходили тогда по всему Петрограду, и гнали мы их до Невской заставы. Балтийский флот - оплот революции... Вот так-то бы все написать, хоть бы рубликов шестьдесят мне сделали... Я б тогда вам.. эх, ты...
Вы пейте, пейте, мне нельзя... Вот только столечко... Больше ни-ни... Бери огурцы-то, бери! Не стесняйся. У меня ведь все свое... Живу один - хозяйка моя в городе. Не едет сюда, да и я к ней не еду... Дом-то уж больно жалко. Дом-то старый. Еще учительницы был. Учительница Яропольская Мария Николаевна. Барыня была - куда там. Из Петербурга приезжала. Мне вот отдали да соседу Федьке Гвоздку. Тут вот кухня была да людская. Теперьуж ни хера нет, сломали все. Тут летом-то - умирать не хочется. Композитор к ней Танеев приезжал, Сергей Иванович. Недели две, помню, жил. На речку ходил, на пианине играл. С бородой. Вот она тут стояла, пианина. Откроет окна и играет... Студенты, помню, два приезжали. Тоже на речку. Велосипед унихбыл, все катались...
Да ты пей, пей!.. Мне-то нельзя никак... Ну, вот столечко... Ешьте, ешьте, все ведь свое... Спешить нам некуда - вся зима наша... Написать бы все полковнику... Как в семнадцатом-то году мы, балтийские моряки, оплот революции, советскую власть мы ведь установили...
Я Владимир Ильича Ленина слышал, как он выступал четвертого июля. Тогда и переполох был. Кто за эсеров, кто за большевиков. Многие недопонимали. Дошли мы до улицы Шесинских. Со второго этажа, с балкона. Нас было тысячи три с половиной, моряков-то. Яков Михалыч Свердлов был тут на балконе и говорит: "Владимир Ильич, моряки подошли, скажите что-нибудь".
Владимир Ильич вышел и стал говорить: "Оплот революции - моряки. Стойкость и выдержка. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной". Много о нтут высказывал. Был, конечно, он в пиджачке. В левой руке, конечно, кепочку держал свою. Лысая голова. Рубашка с открытым воротничком. Желтоватая бородка цапочком. Вот пришлось мне в то время видеть Владимир Ильича Ленина и слышать его слова. И как он высказывал: "От капиталистической революции перейдем к социалистической... Полностью оторвано временное правительство..." А тут Яков Михалыч. "Хватит, - говорит, - Владимир Ильич..." Так он в торопливом виде и ушел. Вон как его охраняли. Кабы чего не вышло. Мы ведь тут все с оружием. "Хватит, -говорит,- Владимир Ильич... "Ауж после этого уж мы три дня бились с ними. Только соберемся, опять налетят. Только соберемся, опять налетят. Идем по Марсовому полю, мимо казарм. Глядим, гвардейцы на окнах сидят. "Присоединяйтесь!" - кричим. А они только на окнах сидят. "Вы, - говорят, - пришли, вы и делайте..." Только на окнах сидят да в гармонь играют... Петроград кипел. Одни только моряки и гуляли. К нам пришел Семен Рошаль и говорит: "Не верьте холуям временного правительства! Не верьте этим холуям - меньшевикам! Не давайте себя в обиду!" А теперь вон пенсия у меня тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек! Хера ли это за пенсия? - ну ее к херам! Да ты пей, ешь, не стесняйся! Накладывай картошки - у меня ее до хера! Пей, наливай! Мне нельзя, не велят!.. Я сам налью!
Я ведь родился в потомственной семье рабочего. До призыва работал в крестьянстве. Призвали меня во флот. Служил на учебном судне "Океан", город Кронштадт. Испытал революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Отец у меня печник был. Мастер был что надо. Пил только сильно. Я тоже печки после работал. В войну был водником - на броне, как незаменимый. У меня по реке - сколько? - семьдесят, что ли, бакенщиков, и у каждого печка. Вот я все и ездил, печки им починял. Конечно, и для себя работал. В деревнях-то прибрежных. Как услышат, что приехал, так уж зовут. Бывало, и муки тебе дадут пуда два, и картошки... Только этим и жил. Из водников-то кто за зарплату служил? Где там дров возьмешь, где чего...
Я первую-то хозяйку в Юже взял. Вдова она была, дочка у ней. Я на квартире там стоял. Такого уж и получилось. Вечером сядем, самовар поставим да поллитровку выпьешь. Чего-то надо делать. Вот я ее и ушлепал...
Да вы пейте, мне-то нельзя... И ешь давай. Какая это к херам закуска? Картошка да огурец в ж... не жилец... Накладывай. Капусты вот уменя нет. У хозяйки в городе. Пенсия уж больно мала. Ты бы вот так написал бы полковнику Кривченко... Или он - Кравченко? Все б так по правде. Я - балтийский моряк. Получил революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Это в семнадцатом-то году. Подняли нас в час ночи. В Кронштадте аккурат первого марта. Вдруг тревога. Боевая. Иванов и Мясников главари, руководители - политиканы-то. Боевая тревога. Мясников прибежал: "Одевайтесь теплее, бушлаты, шинеля! Все в караульное помещение! За винтовками!" Мы похватали винтовки, патроны. Выскочили на верхнюю палубу. Но люки были закрыты - офицеры сами закрыли. На верхней палубе Мясников на банкет стал и говорит: "Что будем делать со своими офицерами, со своим начальством? В Петрограде революция, свобода!" Кто тут кричит - расстрелять! - кто - арестовать! -кто - посадить! - кто - что! Тысяча двести человек нас было. В полном вооружении. Конечно, бросились в каюты. Оказались пусты. Они собрались в кают-компании. Офицеры там в полном вооружении были - кортики, винтовки, браунинги, сабли у них мотались... Стучим: "Отоприте!" Они кричат: "Что с нами делать будете?" Мы кричим: "Сдайте оружие!" Когда отперли, они тут сопротивлялись недолго. После сопротивления сдали они оружие. Кортики, браунинги и сабли отобрали у них. И на берегу в сарай которых заперли. Которые заядлые-то были. А других оставили на корабле. И в полном вооружении по стенке гавани шагали мы. Впереди портовая музыка. И прямо к адмиралу Верину. Значит, подошли к нему. У него часовые стоят - армейская полиция. Один в коридоре, один на улице. Когда арестовать его, как бросились в дом, он там спрятался у своих... Разыскали его матросы, вытащили на улицу. Накинули пальто, фуражку и вывели его на Якорную площадь. Ну что, расстреляли его - раз, раз - в овраг бросили. Старичишка был такой зверь!.. И еще контр-адмирала Бутакова тут же. Его с квартиры привели, он не прятался. После-то хватились, хороший он был. Но тут уж не щадили! Многих расстреляли... Покидали в овраг. Два столба врыли рабочие и лозунг "Смерть палачам!" Это первые-то дни революции. Многих перестреляли. Ну а после этого - митинги, митинги, митинги. Все на Якорной площади митинги.
Конечно, власть временного правительства. Тут они законы ввели, расстрелы, казни. Временное правительство устраивало свое благополучие. Гучковы, Милюковы, Керенский - был глава. Керенский- правая рука царя был. Большевики, меньшевики - кто за что?.. Мы тогда не понимали. Но большевики ведущие люди к хорошей жизни. Так мы понимали... Вот ты пьешь, по тебе и незаметно... Наливай, наливай... Я ведь без хозяйки живу, ничего у меня нет. Самоварчик вот поставим. Варенья-то, повидла у меня до хера. Свое. Сад уменя - двадцать соток. Яблони все сортовые. А на хлеб да на сахар - пенсия... Да уж больно мала... Я уж думал, может, к херам ее! Не брать ее совсем. Тридцать-то шесть рублей! Обидно...
А мясо мне хозяйка привозит из города. Первые-то годы, как та хозяйка умерла, я еще корову держал. Года два доил. А потом - ну ее к херам, продал. А на второй-то хозяйке я уже одиннадцать лет как женился. У ее брата в Ярополье печку клал. А где печка - там, известно, баба. Мне хозяйка-то говорит: "Вот бы тебе жениться. Хорошая женщина, - говорит, - дева". Она у меня целка была. А целку-то теперь где найдешь? Только что у мирского быка...
Ну, давай! Вот только столечко... Да. У меня тут тоже один был из города. Даже ночевал. Говорит, старухе одной пенсию хлопотал. Не давали, так он - министру. И министр дал...
И чего только мы, балтийские моряки, не пережили. И революцию, и гражданскую войну. Эх, гражданская война! Советская власть на ниточке моталась! Когда Бутакова-то контр-адмираламы в Кронштадте поставили к оврагу - хороший был мужик! Но расстреляли. Горячка. Красивый был, высокий. Борода - во! Он только-то и сказал: "Если уж меня расстреливаете, то всех расстреливайте вплоть до унтер-офицера, а то, - говорит, - у вас будет гражданская война". И точно. Тогда Владимир Ильич Ленин такое указание дал: до мелочи вооружить. Готовил восстание. Восстание назрело, говорит. Это Троцкий был, сукин сын, фракционер. Зиновьев был, Каменев, Бухарин - это все сукины дети, они откололись...
После как взяли Зимний, тут три дня безвластие было. На кораблях споры были: кто за временное правительство, кто за большевиков, кто за меньшевиков. Споры - только слушай. Вот Керенский тогда убежал на машине. Не сумели его схватить. А уж после - большевики. Голосуй за список номер шесть! Антихристы нас называли, по-всячески клеймили. А что такое Антихрист? Это что такое? Большевики! Голод был, болезни завелись. К нам Федор Иваныч Шаляпин приезжал выступать в Кронштадт. В революцию-то сбросить больно легко, а вот война-то была. Это было тяжелей. Балтийский флот - самая опора, когда советская власть на волоске моталась. Царские командиры армии и флота, скатившиеся в контрреволюционный лагерь...Гайда -проходимец, колчаковский был любимец, Деникин, Юденич, тут Колчак. В восемнадцатом, в девятнадцатом голод был, вредительство. Вредили на каждом шагу. Они с четырех сторон хотели задавить нашу молодую советскую власть. Наймит Антанты Юденич шел на Петроград, Деникин взял Орел. Самый свирепый генерал Юденич, наймит Антанты, задумал перевешать всех балтийских моряков. Думал перевешать всех. Он балтийских матросов ненавидел. Он дал приказ стереть с лица земли большевиков. Вот как они говорили, латыши, эстонцы, белогвардейцы. Достойный ответ они получили. Грозный ответ. От моряков балтийского флота.. Кто кого? Мы отвечали: "Там, где было море, будет Петроград, а где Петроград, там будет море, а мы не сдадим". Он и по сейчас стоит Санкт-Петербург, где родилась революция, а вождь революции - Владимир Ильич Ленин, которого мы охраняли... Наливай и мне! Ни хера не сделается! Помянем царя Давыда и всю кротость его!
Сейчас самоварчик соорудим. Сделаем! Мальчишку ли, девчонку, а чего-нибудь смастырим... Мяса вот у меня нет. На охоту не ходил. Тетеревов бы пару... Тетерева они в снегу, приспосабливаются. Домашний-то скот во дворе, а им чего делать?.. Вот они в снег и зарываются. Идешь, глядишь эти капушки. Прям лыжами по ним идешь. Они только вылетают фыр, фыр! Ну, и подстрелишь пару. Придешь домой - щипать! А он, тетерев, зимой крепкий. Тетерев та же курица, только что в лесу. Самая лучшая дичь... Раньше господа все за тетеревами ходили... У нас тут и лоси. Шесть штук. Эх, его бы свалить... Да куда денешь?.. Вот ковровские-то бьют. Свалят - тут же увезут. Вот это - дело! А у нас чего сделаешь - все на виду. У меня за рекой есть лосятник знакомый. Хабаров. Вот лосятник. Он их сотню свалил. У него обыск делали - четыре ноги нашли, да все разные. Ему и штраф дали, а он все ходит. "Это мне, - говорит, - только комар укусил. Мне, - говорит, - это ничто..."
Ты мясо-то его ел? Лося-то? Жесткое только, а так-то сладкое. И то - какой лось. У него ежели копыто острое, то его не раскусишь. А коли копыто тупое, как у коровы, - она та же говядина, жирная... Вот бы его свалить. И всю зиму с мясом. Я вон у лосятников был. Во какое блюдо наложит мясом - только ешь, не жалко. И без хлеба.
Мне врачи-то пить запрещают. Только ни хера они не знают! Не знают, сукины дети, как мы революцию делали и гражданскую войну!
Хорошо помню - в августе месяце, ясные дни. Сидели мы в домино играли. Ждем обеда. Вдруг откуда-то снаряд... Тревога... Ну, значит, нецензура, мат один. Красная горка. Двое с половиной суток били по Красной горке. Он наш порт-то был, но его белые взяли.На третьи сутки около часу дня штаб морских сил, вице-адмирал Кузнецов дает команду: "Развернуть орудия! Надетьчехлы! Красная горка взята!" Тут уж все тихо-спокойно. Четыре бочки вина на всю команду. Виноградное вино, а пьяное... Моряки раньше балтийского флота - все пьяницы были. Пьяницы бы не были - Зимний бы не взяли. В прежнее время ведь как говорили: умница артиллерия, красавица кавалерия, пьяницы во флоте, дураки в пехоте... Как где чего было неустойчивое, моряков посылали. И на Колчака, и на Деникина, зверя-то этого. Шкуро, Зеленый... Самый главный - Деникин был. Я все время на корабле. Мы держали Петроград. Питер всколыхнулся, Петроград бурлит. Юденич тогда комсомольцев расстреливал. Все от восемнадцати до пятидесяти стали на защиту Петрограда. Наймит Антанты был разбит. Юденич бежал со своим войском во Францию, в сумасшедшую больницу. Наливай давай!
Я все забываю, как тебя зовут? Закуси огурцом-то, закуси! Мяса нет - и не надо! Мясо ведь оно надоест, а картошка -н икогда.
Вот турки-то, говорят, одним овощем питаются. Одни овощи едят. И до ста лет живут. Интересный народ. А хозяйка мне мяса привезет... Теперь-то уж поглажу ее, да пощупаю, и то хорошо. Как говорится, свою жену в чужом коридоре ушлепаешь, все равно как барыню... Она ведь дева у меня была. Так до росписи и не давала. Я все встречать да провожать ее ходил. Хотел ей... Нет, говорит, до росписи нельзя. Так и расписались. Венчается раб Божий Евгений с рабой Божией Ксенией! Аминь! Она у меня в фабрике. Уж и пенсию получает - пятьдесят семь рублей. Да еще и работает, пока сила-то есть. Рублей восемьдесят гребет, когда и сто. У нее деньги есть. Да и у меня есть. Она меня все в город зовет, да мне дом жалко. Я уж и хотел его продать да купить в городе... Дети мне тут написали, некуда им будет летом приехать. Это от первой-то дети. Дочка - не моя, и сын Левка - мой. Зять у меня полковник в Краснодаре. Так и не продал... Скоро самовар поспеет. А если Кривченко не поможет, насчет пенсии-то, ты министру напиши. Должны дать. Коли мне пенсию дадут, мы с тобой так выпьем... только держись! И на охоту пойдем. Приезжай - живи у меня хоть неделю, хоть две. И на рыбалку. Ты уху-толюбишь?..
Ты еще ему напиши, как мы Петроград патрулировали. Город был на военном положении. Только до девяти часов. Чтобы ни одного человека не было. Вот шли мы Невским проспектом. Подходили к Адмиралтейству. К Летнему саду. Попадается барыня. Высокого роста в балерейном костюме, шляпа с соколиным пером, харя за сеткой черной. Ее начальник предупредил: "Город на осадном положении. Только до девяти часов". - "Братцы-моряки, - говорит, - я хотела бы с вами поговорить". Начальник патруля Пурышкин, козел тверской, мы так-то всех звали: мы, владимирские, богомазы, московские водохлебы... Пурышкин говорит. "Ну, поговори давай..." Она и начала: "Вы - моряки, такое войско, такое отборное войско и допустили такого подлеца Ленина... "Начинает тут всячески клеймить Ленина. Он продал Москву, Петроград, получил полтора миллиона золотом..." А начальник ей говорит: - "А вы эти деньги видали?" - "Видала, - говорит, - у меня такие-то деньги и дома есть. Ленин, - говорит, - Россию продал, хочет пустить немцев в Петроград, в Москву..." - "Ну, хорошо, - Пурышкин говорит, - еще чего вы скажете?" А она только: - "Вся Россия теперь Лениным продана". А начальник говорит: - "Хорошо. А вы не дойдете с нами до комендатуры? До Адмиралтейства?" - "Не пойду, не пойду, не пойду! - говорит. - У меня на квартире муж ждет". - "Нет, пойдете!" - "Нет, не пойду!" - не шла она. Начальник меня назначает: Шорин и Курин (костромской был). Назначает нас вести. Винтовки наизготовку держать! У нас винтовки заряжены были. Мы в бушлатах. Она: "Не пойду, не пойду, не пойду!.." Все-таки ее повели. Дал приказ стрелять, если побежит. Как к комендатуре-то стали подходить, она; "Отпустите меня, отпустите!" Золото стала предлагать. Я, как старший, говорю: "Нет, - говорю, - не отпустим! Революцию мы за золото не продаем!" Она, конечно, все золото сулила. Дескать, пойдем на квартиру, там золото... Много золота намсулила. А пойди мы к ней на квартиру, небось, пули бы в затылок пустили. Вот тебе и золото.
Мне Курин-то говорит: "Может, отпустим ее?" - "Ты что? - говорю. - А как нас с тобой расстреляют?" А она все: "Золото да золото..." - "Нам, - говорим, - золото неинтересно. Нам надо туда вас представить, куда приказано". Привели ее к коменданту в Адмиралтейство. Здоровый такой парнина, в плечах широкий. Ходит по кабинету, и два револьвера у него лежат на столе... А мне - чего?.. Было поручено сдать коменданту. А у Николаевского моста там встретимся. Пурышкин такое указание дал. А комендант здоровый такой и все ходит по комнате... "Что, сука, попалась, гадина?!" Ее сразу тут в обморок бросило."Я ничего, ничего", - сразу начинает. Я тут рапортую: "Такая-то, говорила: Ленин продал Россию, Петроград, Москву..." И он приказывает: "Отвести в морскую следственную!" Тут она в обморок-то забилась: "У! У У!" - заухала. А он: "В морскую следственную!" - говорит грубым голосом. Она: "У! У! У!" А он: "Молчи, гадина, пристрелю!" Пришли тут два матроса конвойных,а она ревет, плачет" "Отпустите меня, меня дома ждут..." И золото все сулила... Васька Куринов хотел взять, а я не дал. Испугался. Свои, думаю, пристрелят... Ты это-то не пиши. И повели ее в морскую следственную. Их тогда собрали на Лисий Нос и распыжили! Их тыщи две тогда запичужили - полковников, подполковников, старорежимников!.. Всех их на Лисий Нос, на баржу и в море! Они комиссарами нас не называли. Все - комисралы. И после еще тысяч восемь! И правильно! Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции, клеймить! Сука! Мы тогда советскую власть одержали, защитили... Нас Юденич в котлету хотел изрубить, и ничего...
Ты наливай себе чай. Один крепкий лей! И варенье бери! У меня его до хера! Я ведь у него был, у Кривченки... Руку мне жал. Хороший мужик, полковник. "Рассказывай", - говорит. Я ему рассказывал. Тут лейтенанты к нему в кабинет пришли два. Молчат. Полковник! Я тут ему и говорю: "Можно, - говорю, - я с ними поздороваюсь?" Он говорит "Давай!" - "Ну-ка, - говорю, - мне постройтесь!" Они молчат. Я говорю: "Какие же вы херовские лейтенанты? У меня, бывало, взвод стоит по струнке! Мысли мои знают! Я только еще подумаю, а они уже знают!.." Эх, морская душа простая. У нас на море - не как у вас на берегу! Херовские лейтенанты!.. Эх, и служба у нас была веселая. Матросы все молодые. Старшина был катера, Коля-Ваня звали то ли он Иван Николаич, то ли Николай Иваныч! Вот был мужик веселый. Только скажет "Эх, залилась м... кровью, рубцов не видать!" А у самого... И в карты любил играть. "Это что, - говорит, - за игра, из-за хера сзади не видать!" Обыграешь его в козла, только скажет: "Зря,-говорит, - тебя мать углом не родила, свинья 6 об тебя м... почесала..." На занятиях по словесности, бывало, скажет: "Это, - говорит, - все я не знаю. Я, - говорит - только знаю, из каких главных частей м...
А боцман у нас был, их и зверь! Раз и меня цепкой огрел. Я так-то вот стоял да тянулся возле койки. А он как опояшет!" Не дома!" - говорит. А кого и по три, и по четыре раза. Да все цепкой. Ох и били его в революцию. Посадили так-то вот на стул. "Простите, - говорит, - товарищи... Это, - говорит, - такая служба... Товарищи..." - "А ты меня за что цепью?!" Раз его! Он со стула валится. "Ах, ты валишься?!" И еще ему!.. Многие тут били. Я ему тоже дал раз, чтобы мое не пропадало... Офицеры-то у нас звери были. Куда там!.. Только на берегу. В походе - не то! Тут они шелковые становились. То одного столкнут в море, то другого...
Да ты бери, бери варенье-то! В чай его ложи! Не бойся! Я крепкий-то чай люблю! Я и вина попил, и баб трепал. Дело прошлое. Енька Шорин давал - только держись! Знай морских, почитай флотских!.. Вон из того дома, потому порядку старуху - то в больницу увезли... Дева! Я было просил у нее. Не жениться - так! Нет, не дала. "Скоро, - говорит, - Пасха". Набожные больно были... В церковь придет, в блюдо копейку бросит, а тянет гривенник! Вот они какие, набожные-то! Так дева и осталась. Ну и хер с ней! Это все прошло дело... Тебе, может, сахару еще дать?.. Ты ешь, ешь! Может, варенья тебе другого?.. Как хочешь... Эх, если мне пенсию дадут... А не дадут, мы прям к министру... Хера ли мое теперь житье?.. Девятнадцать лет живу один... Мне уж семьде- сятчетыре... А чего поделаешь? Мне соседи-то говорят: "Ты сервант купи да вон стены оклей". А на хера?.. "Ты, - говорят, - деньги бережешь..." А я и берегу. А как их не беречь? Деньги-то у меня есть. А как же без них?.. Ведь вот помру - дух вон и яйца кверху! Этого не миновать. Плюнут в рожу мертвому, и ни хера не сделаешь.Сейчас-то мне в рожу плюнь, я те сдачи дам... А тогда уж ни хера не сделаешь. Лежи! Вот деньги-то и нужны. Два ящика вина купить мужикам. Щей сварить мясных, каши. Всех чтоб накормить - стариков, ребятишек... Что еще нужно? Стар я стал. Старый матрос, уж все прожил, а толку нет... Вот так-то бы написать!..
декабрь 1971 г.
Курячий доктор
- Здравствуйте...
- Здорово, дедуся.
- Это с петухом сюда, что ли?
- Заходи, заходи! Показывай своего орла.
- Нет, ты, милок, погодь... Ты мне вот что сперва скажи. Отчего у меня куры мрут? С позапрошлого года почитай двадцати молодкам головы оттяпал... И топор-то у меня тупой. Раза три вдаришь, пока она отскочит. Мрут и мрут.
- Ну, это, дедуся, так сказать затруднительно. Мало ли какие у них бывают болезни. Туберкулез, чума. Ты давай показывай петуха-то, показывай.
- Погодь, погодь. Вот и он. Уж третья неделя. Раньше-то у него хохол красный был, а теперь вот, значит, пожелтел... Да повис. Чего это с ним?
- Сейчас, дедуся, посмотрим... Сейчас определим... Держи его вот так, держи... Так, так... Шелушение... Сережки... кожный покров ног... Ну-ка ты ему, дедуся, клюв открой... так, так... Вот сюда, поближе к свету... Ну вот. Желтое образование в гортани. Картина ясная. Авитаминоз.
- Чего?
- А-ви-та-ми-ноз! Болезнь, хворь у него такая... Ты, дедуся, чем их кормишь?
- Известно чем - хлебом, картошкой...
- Вот-вот - хлебом да картошкой... А им, дедуся, витамины нужны.
- Чего?
- Вот что, дедуся. У тебя дома морковь есть?
- Есть. Как не быть?
- Значит, так, натри им морковь и давай. А свекла есть?
- И свекла есть, милок.
- И свеклу им руби да прибавляй. Дрожжи им тоже давать неплохо.Рыбий жир можно вливать по чайной ложке. И потом, дедуся, солнце. Они ведь у тебя всю зиму в курятнике сидят, солнца не видят. И гравий им надо, ракушки в зиму заготовлять.
- Это курям-то?
- Курям, курям, дедуся.
- Чудно, милок... Вон у отца-то у мово сколько их было, и ничего им не делалось... А теперь вот, видишь, и моркву им, и рыбий-то жир. А они все мрут, все дохнут.
- Тебе, дедуся, сколько годов-то?
- Восемьдесят третий пошел. Раньше-то...
- Да что там - раньше-то? Ты на "раньше" не смотри... Раньше вон одно мыло было, а теперь вот порошки разные, синтетические. Баба вылила их на улицу, она, курица, попила из этой лужи - вот тебе и готова. Много ли ей нужно? И удобрений разных не было. Раньше-то по деревне возили только что навоз. А теперь вон тракторист тряхнул, удобрение просыпалось, и вот тебе опять пожалуйста. Наклевались они и готовы. Так что, дедуся, картина тут ясная - авитаминоз...
- Нет, милок. Мне думается, он не от этого... Я его риперином лечу.
- Чем, чем?
- Риперином. Таблетки такие.
- Какие еще таблетки?
- А вот ты слушай. Мне голос был. На просонках. Будто кто в ухо сказал; чем себя лечишь, тем и его лечи...Риперином. Вот он пузырек-от, погляди...
- Ну-ка, ну-ка... Реоперин... Ревматические заболевания... острый, подострый... хронический артрит... люмбаго... Вот что, бабуся, то есть дед... Ваши таблеточки тут ни причем.Ты его в гроб вгонишь.
- Нет, милок... Я смотрю, ему вроде помогает. У него вот на той-то неделе хохол совсем желтый был... А сейчас вот, гляжу, вроде как поправляется. Еще не совсем красный, а уж вроде того. Я об ем все думаю. Вот мне голос-то и был на просонках. Будто кто прям в ухо сказал: чем, дескать, ты себя лечишь, тем и его лечи...
- Ты, дедуся, со мной не спорь. Говорю тебе: авитаминоз. А таблетками этими ты его изведешь. Только в гроб вгонишь.
- А ты что, ветеринар, что ли?
- Ветеринарный врач.
- А то у меня еще был друг большой, ветеринар. Тоже тут, в городе. Морозов Федор Степаныч. Мы тогда молоко им сдавали. А обрат-то нам опять не давали. Наш-то обрат весь в колхозы шел, да в совхозы. С каждого хозяйства литров по сто двадцать. Я тогда и напиши в область, дескать, наш-то обрат уходит в колхозное стадо, а своих телят выпаивать нечем. Мое-то письмо и переслали сюда. Он, Федор-то Степаныч, на улице меня увидел да рукой вот так-то машет. "Вы, - говорит, - писали во Владимир?" - "Я, - говорю,- нечем ведь кормить телят-то". А он мне: "Сколько, - говорит, - тебе нужно? Я тебе выпишу". Я говорю: "А люди как же?"- "А люди, - говорит, - хер с ними. У меня на всех не хватит". - "Нет, - говорю, - не всем, так и не мне..." Морозов Федор Степаныч...
- Ну, вот что, дедуся, бери свои таблетки и не думай ему их давать.
- Он у меня уж штук склевал шесть. Вот так-то рот ему открою, он и проглотит. И вроде как лучше...
- Слушай, дедуся... Ты этим только себя успокаиваешь.У тебя этовроде как условный рефлекс. Я вот сам - семь лет, как пить бросил. Я на праздник теперь за столом стакан лимонаду выпиваю и тоже, как все, пою... Это у меня условный рефлекс. Вроде я тоже пьяный. Так вот и у тебя - рефлекс. Говорю тебе, ты его в гроб вгонишь.
- Ну, прощай, милок...
- Прощай, дед. Только я тебе точно говорю. Брось ты эти таблетки. Сам пей, а ему - ни-ни... Подохнет, как пить дать, подохнет...
- Подохнет али выживет - на все Воля Божья...
март 1971 г.
Старина
- Это старые-то вещи? Иконы?.. Знаю я, все знаю...Только уж ее, старины-то, сейчас тут не найдешь. Ни у кого не найдешь... А ведь было, все было... Чего только не было.. Я ведь сам офеня природный, владимирский... Четырнадцать годов с отцом первый раз ушел в дорогу. В устреку по-нашему-то, по-офенски...
Я еще в школе мальчишкой учился. Сдавали мы экзамен в девяносто шестом году, аккурат, когда царь-то на престол всходил... Учительша и говорит до экзамена. "Тебе, - говорит, - Лепешкин, придется еще годок поучиться... Спроси, - говорит, - отца..." Писал я плохо... Так грамматику, это я больно хорошо учился, стихотворение - раз, два прочитаю, и уж все готово, а писал больно плохо... Ну, отец-то и говорит: "Мало как пишет, в писаря, что ли? Читал бы, да и все..." Ну а потом стали экзамен сдавать, нас человек сто пять было, из пяти школ... Вот сто четыре сделали ошибку, а я один написал правильно... Инспектор диктовал, так-то шамкал: "На полке ле-ф-али ча-ф-ки, ло-ф-ки и сковорды..." Все и написали "сковорды..." Один я - "сковороды"... Помню, сдавали тут во Мстере, где школа... Учительница вышла и говорит: "Удивительное дело, - говорит, - я на Лепешкина и не надеялась, а он один пятерку получил, а все только четверки..."
У нас тут какое хлебопашество, хлеба едва до Рождества хватало... Вот вся округа одни офени и были... И пошли мы с отцом в дорогу первый раз в девяносто седьмом году, пятнадцатого сентября, на лошади... Шли через Шую, Иваново, Ярославль... Какие товары и водой отправили через Нижний на Череповец, а какие с собой... Иконы были, да книги, картины Сытинские... В Череповце получили мы иконы, а ехать надо было торговать в Олонецкую губернию, потому что старина-то она вся там - в Олонецкой, в Архангельской, в Новгородской, конечно... Ехали через Кириллов, в Белозерск, оттуда в Вытегру... Она на берегу Онежского озера... А там ездили по деревням... Книги да картины по ярмаркам, а иконы - по деревням...
Там много ярмарок, чуть не круглый год. Иконы у нас были фольговые, мстерской работы... Конечно, и деревянные были, но их только по староверам продавали, староверы фольговые-то не берут. Деревянные под старый вид писаные, это только для староверов... Зарабатывали-то немного, конечно... Больше меняли. Там можно было древние-то иконы найти да выменять, а уж тут их нигде не найдешь... Потом древние-то домой привозили, а здесь их мстерские покупали. Один хороший был покупатель Александр Игнатьевич Цепков. Этот покупал ценную старину. Даже в то-то время двести, триста рублей - это не каждый имел, а Цепков покупал. За семьсот и то покупал. Но это редко когда... Их все больше на колокольнях старых находили, по церквам... С покойником икону принесут, она там и лежит... Бывало, уж ничего на ней нет - одна старая доска, чка по-нашему, по-офенскому... Мы за них по пятаку платили, во Мстере-то ее уделают под самую старину... Бывало, по пятьсот даже таких досок набирали... Конечно, которые покрупнее да поценнее, те с собой, а так, которые напакуешь одна на одну и поездом по Архангельской дороге... А во Мстере-то, бывало, по шестьдесят, по семьдесят рублей платили за семивершковую-то, за старую...
Я раз шестивершковую купил, Никола оглавный. Я ее взял, на икону на фольговую выменял... За тридцать пять копеек... Принес отцу. Отец говорит: "Хороша икона, да уж выгорела. Лица-то уж не найдешь". Привезли мы ее домой, с уголка нашатырем помазали, а она вся целая... Мстерские за пятьдесят рублей взяли...А еще раз привезли одну, на три части распалась - три доски... Владимирская... Так за сотню пошла...
Из Богоматерей боле всех ценится Владимирская и Смоленская, ну, еще Тихвинская... Николай чудотворец, Спаситель, это все ценилось, а предстоящие - меньше... И каждому свое название. Вот Никола - по-офенскому - Хорхора, Богородица - Стодница, Спаситель - Стеситель... А иконы по-нашему - стоды... Одну, помнится продали мы прям из дома, была она на божнице, аккурат вот такой же вот Никола, как этот... Ростом был аршин с чем-нибудь... Купили мы его с отцом в барском доме. Просто сам-то барин не живет в своей усадьбе, а купили у дворни.Она стояла не на кухне даже, а вот где дворня-то живут. Но старая она была, уж по краям начала пропадать, крошиться... Тоже Николай угодник, годов двадцать она у нас стояла, а тут мстерский маклер... Старичок, Осип Шитов... Вот он нам тогда покупателя и привел, из Петербурга, Егоров ему фамилия... Пришел и говорит: "Снимите мне ее сюда из божницы". Сняли вот сюда на стол, он надел очки, потом вынул кран-циркуль... Сначала измерил так и так, потом руки, расположение... "Вот это - говорит, - самого новгородского письма... Ну, - говорит, - сколько хочешь?" - "Двести пятьдесят", - отец говорит. "Нет, - говорит, - мне ведь ее еще в Петербург везти". Ну, отец и отдал за двести тридцать, скинул двадцатку-то... У него скатерть с собой была, так он ее в скатерть завернул, да и повез во Мстеру... Вот так-то мы с отцом и ездили. Шесть или семь лет. Пока отец в дорогу ходил. А потом он во Мстере посудную лавку открыл, да и ходить перестал... А я уж тут серебрить ходил - куреньшить по-нашему-то... Серебро, значит, куреньшо, а золото - кулото... Серебрил я это с девятьсот третьего года и по... по... по пятнадцатый... А серебрили-то когда монетами, а лучше всего ломом. Лом-то я покупаю в городах десять-двенадцать копеек золотник, а в рубле-то их всего четыре золотника, двадцать одна доля... Серебро больше покупали по городам, в ломбардах с аукциона, да у часовых мастеров...
Лучше нет, как работать в Вятской губернии. Там приходы большие - по пять, по четыре, по шесть священников... Утвари, во-первых, много. А вообще-то они не нуждаются в деньгах. Посеребришь им, а староста... они все эти серебряные вещи поставят посреди церквы в воскресный или в праздничный день и делают им священье. Священник кропит, а на священье народ все несут деньги, либо шерсть, либо лен или курицу принесут... Глядишь, наберет он полсотни на священье, а то и больше. Этим и выходят. Другой раз вперед рискуешь. "Серебрите, - скажут, - а мы на священье соберем..." Которые холста несут, которые - чего. Все больше льну да вот шерсти.
Годов десять я ходил все по Вятской. Три раза лошадь покупал, долго проработаешь, весна захватит, приходится продавать... На санях-то пока ездишь. Одну пригнал, помню, домой. А до той уж больно хороша была кобылка, тоже хотелось пригнать.. Лошадей там больно много, в Вятской губернии. Местной породы, вятская... Невелики лошади, но широкие лошадки... Какой бы цвет ни был, а все по спине у нее ремешок. Если она бурая, а верхушечка-то все чернее... Да. Чего только не было, за столько-то годов.. Ведь офени-то какие только не были. И пьяницы были...
Был тут раньше в отцовы-то годы Филипп Иваныч. Сын у него теперь... вот имя-то сыну забыл. Он больно пьянствовал. В Боровичах Новгородской-то губернии с месяц торгует, а потом и забусает, запьет. Сына своего вечером посылает: "Вандай гомыры". Принеси, дескать, водку... Его и хозяйка-то со двора хочет согнать. Неделю, дескать, целую пьянствуешь, бусаешь...В Боровичах-то, помню, на постоялом дворе офеней много, вот и расспорились. Какое, дескать, название козе. Одни говорят - моза. Нету, говорят те,ей другое есть название - трикотуша... Овца-то - моргуша, а вот коза-то - трикотуша... Так-то по-офенскому мы не больно говорили, только вот когда какое слово сказать, чтобы не понял никто... Если сказать, что надо лошадь сходить напоить - остряка набусать.Фера берить - сена дать. Торговаться приходили когда. Если торгуется мужик, дает мало - просишь двадцать копеек, а он дает пятнадцать... Ну, и спросишь товарища-то: "Сабосу стычит?" Дескать, сколько себе-то стоит. А мужик и не понимает... Или в церкви работаешь, а поп идет... "Тише, - говоришь, - кас хлит". Значит, поп идет... Да мало ли чего делали офени-то владимирские... Всего и не упомнишь. Все было... И старина была, и золотишко было... Раз, помню, в Вятской губернии, с Чистого понедельника работали до пятнадцатого апреля, Пасха была в Благовещенье в двенадцатом-то году. Сперва тропари Благовещенью служили, а потом - Христос Воскресе... Село Богородское, Нолинского уезда... Церковь была трехштатная, три священника. Четвертый нештатный из дьяконов... Пришло нам время рассчитываться. Мы два месяца в аккурат работали. Настоятель, отец Всеволод, спрашивает: "Мастер, какими деньгами вас рассчитать?" - "Давай, - говорю, - золотом. Оно нам сподручнее. Мы его, бывает, травим да в дело пускаем" .- "Ну, - говорит, - золотом, так золотом..." И отсчитали нам двести сорок рублей одним золотом. И все десятками...
Да... И вот прожил все. Почитай, за год две лошади у меня в двадцать третьем-то году пали. Первую-то я купил, отдал шесть золотых десяток, да корову. И полтора года она у меня не была - пала. А уж вторую покупал за тринадцать тысяч. Какие цены тогда-то были... Легко ли тринадцать-то тысяч набрать? Все тогда продал, всю старину. Часы были золотые с музыкой-продал. Да серебра лому с полпуда было. У бабушки, матери-то, последняя десятка была - она отдала мне. Сдал ее в городе за тысячу рублей без двух рублей - за девятьсот девяносто восемь. Лому-то сдал тогда еще на фунты, тоже сот на пять. Были вещи - рюмочки, стаканчики. Много вещей было из ломбарда еще, из Вятки... И корову. Пришлось уж не свою, а у сестры. Она уж была отделена, сестра-то, вот у нее корову взял да за шесть тысяч продал. И вот едва сколотил я тринадцать-то тысяч, и купил молоденькую неезжалую, трехгодов. Спасибо, Бог дал, хорошая попала лошадка, кобылка... Куда съездить, так живо-два... Так и ту в тридцать первом году в колхоз свели... Так вот ничего и не осталось.Только вот что дом. Большой дом... Да, лесу-то тогда дали... Ведь лес-то он барский был. Сеньковский, Демидовский... Новой-то власти надо было сперва крестьян потешить, вот и дали...
Да, теперьуж старины нет... Только что колокольчик где-то был. Погоди, сейчас принесу... Д а вот икона эта Никола. Этот старый. А вот это - Покров. Она только под старину писана. Вот, гляди, колокольчик этот мы еще с отцом из Олонецкой губернии привезли. Там красной меди в старину все чего-нибудь да лили... В Олонецкой губернии медной посуды много. Много было еще в то-то время, при нас... И Никола этот тоже из Олонецкой. Вытегорского уезду. Тоже с отцом привезли. Это - старина. Выменяли, помню, на новую икону, на фольговую... Мы у них не один год там ночевали. Главное, ее чинить-то не надо, она вся целая. И деревни помню название, Рокса название. Там староверов-то было много, в Олонецкой губернии... А уж вот Покров, она не старая, только со старого списана. Он писал ее, что ли, в двадцать седьмом.
Там во Мстере-то больно голод был. Хлеба-то давали грамм триста, четыреста... Василий Михайлович имя ему, Наугольнов. Пришел он милость просить. А отец с ним был знаком до этого-то. Вот он пришел под это вот окошко милость просить, стучит. Отец говорит: "Вась, это ты?" - "Я..." - "Я, - говорит, - тебе дам две доски, ты мне Покров напиши, да Егорья, а я тебе мешок картошки дам". Он ради питания написал. Покрову нас тут престол был. А Егория писал в божницу. У нас раньше старинный был Егорий. Вот тогда-то еще приехали из Москвы, побывать сюда. Они все отседа брали. Это дети-то Ивана Митрича Силина. Уж они отца-то знали. "Епифаша, нам продай, - Егория увидели, - продай нам..." Он говорит: "Из божницы-то вроде грешно продавать. А сколько дадите?" - "Да четвертной..." Вот Наугольнов-то и написал нам под старину. Егорий, он разный бывает. Один на леву руку едет, а другой - под праву... Который куда... Один сюда - из божницы долой, а который - сюда... Не помню уж, который под старину-то. Что?..Продать?..
Продать-то продам. За так не дам. А продать - чего уж тут... Давай за три-то рубля уж и Николу, и колокольчик, и Покров. К чему оно мне теперь все... Бери, не стесняйся... Вот они по радиво все говорят, дескать, Ленин умер, а дело его живет. Да... А я вот и жив, а дело-то мое умерло. Лепешкин жив, а дело его - умерло...
март 1971 г.
Девяностолетняя
- Кто там?.. Ай, это ты? Ты?.. Пришел, опять пришел?.. Не забыл старуху-то... Иэх, ты... Иэх, ты... Дай-ка я на тебя погляжу. А уж ты, чай, думал, померла бабка-то старая. А я все живу, все живу... Господь не прибирает. Уж не знаю, на что, а живу... А все ж пришел ты к старухе-то... Ну, спаси тя, Господи!
Дай тебе Бог дожить до моих годов, да вот так-то бегать, как я бегаю... Девятый десяток дожила, помирать пора... А я все бегаю, все бегаю... Летось-то уж не знаю, как и жива осталась. Натерпелась страху-то. Надо бы поседеть али дурочкой быть, а я вон все за Бога держусь. Только Он и спас. Лежать бы мне теперь в яме, да вот Бог свободил. Не пришел, видно, час-то...
Уж не ведаю, в каком и месяцу, только что осенью... Пахать приехали, везде пахать. Все усадьбы. У нас-то тут, в Вантине, только что в двух домах и живут. Мой - третий. Четвертый еще стоит, да только сломают его скоро. Не дадут ему быть. А живем-то все по две да по одной. В маненьком дочь ушла от мужа, тут живут. В крайнем, там - одна.
А была ведь наша деревня восемнадцать домов. И уж все подчистую нарушилось. Как скотину от нас угнали в чужой холкоз, так тут все и побегли. Кто на станцию, кто в Горький, кто - куды... А тут гляжу - батюшки мои! - председатель. Конечно, уж он на машине ездит. "Бабушка, твой огород будем ломать". - "Нет, - говорю, - не будете". - "Нет, - говорит, - будем!" И так-то строго сказал: "Пора подыхать!" А я: мол, я нарочно буду жить!.. Так и уехал. И этим, трактористам-то, видать, сказал, что, дескать, не пахайте. Постояли, постояли, да и поехали. В соседней деревне, в Каширине, семь огородов ломали. Ломали, да корчевали, да пахали. Там, в Каширине, домов семь еще не нарушены. Там большая деревня-то, поболе нашей. На два порядка было... Вот там и пахали. У тех не ломали, в коих живут. Потом гляжу - опять к нам едут. Батюшки мои! Дерево на тем конце повалили да повезли на тракторе-то в Илевники. Они тама, в Илевниках-то, на квартире стоят. Какие у них трактора, уж я не знаю, у них чего. Ведь корни-то какие, и все выломали. На тракторе эдак-то не выломаешь, а у них такие способные машины... Ну, я тут маненько сметила... Тоже уж не пробка. Пошла скорей в соседнюю деревню, у Паши Анисимовой там ночевала. Вроде как тогда еще не обробела. Пошла утром в церкву, в город, да там нашла подружку. Побирушку Поленьку.Она все у церквы стоит, милостыньку просит. Поклонилась я ей в ножки. "Уж пойдем, Поленька, Христа ради. Поживи ко мне".
С ней-то и были вдвоем. Кабы не она, уж бы не жива была... Вот ведь и сейчас рассказывать не могу - плачу. А они все в Каширине там ломали. Потом гляжу - прошли мимо окошка. Я как увидела, так меня затрясло. Всю затрясло... Ну, думаю, конец... Машины-то они тама на свободных участках бросили. Сами прошли мимо окна. Долго их не было. Уж чего там делали - не знаю. Выпивали, нет ли? Уж трезвые не пойдут. Пришли в дверь. Бот! Бот! Бот! - в дверь-ту кулаками. Меня хоть затрясло, а все ж не сшибло. "Кто тут?" - "Отпирай!" - "А чего вам нужно?" - "Отпирай!" - "Не отопру!"- "Сказано последний раз: отпирай!" А я говорю: "Я, мол, не отопру. У меня, мол, приехал внучонок с товарищем.." Сама набираюсь духу - вру. Никого ведь у меня нет. Только что она, Поленька. "Не отопру! - говорю, - У меня, мол, внучонок с товарищем выпивши на печи лежат. Если вас, мол, впустить, что у вас, мол, получится? Они там выпивши двое - внучонок с товарищем. Кто, мол, первы в тюрьму-то пойдет которы..." А сама уж не могу. Привалилась к стенке на мосту в колидоре... Ну, говорят:" - "Огород ломаем твой... Обломаем, - говорят, - огород". А я мол: - "Нет, не обломаете. Кто, мол, кому обломает? Двое-то вас не упустят. Внучонок с товарищем..." А и нет никого. Одна Поленька. А они как хлопнут в дверь - ногой ли, чем... Я к стене-то так и упала. Лежу...А уж слыхать - загремели трактора-ти... Вроде как в Каширино... А я лежу. Поленька-то, Поленька-то мне: "Офросенька, поехали!.. Офросенька, поехали..." А я лежу. Принесла она воды-то холодной. Намыла меня, попила я маненько... Утром-ти встали, глядим, яблони, терновник поломаны... Скорей в город. Она-то в церкву, а я к Славику, к внучонку. - "Ныне же езжай за мной, я там не могу жить". - "Ныне, - говорит, - не могу, я работаю".
Другим-то утром взял машину да забрал меня в город... Так ведь всю зиму и не жила тут, дома-то... И уж откуда они приехали с такими-то тракторами? У нас нет таких и тракторов, кои дерева ломают. Может, говорю, пожаловаться кому на них да на него,на председателя-то? Он знает, поди, им и фамилии... Только внучонок говорит: - "Не надо, баба. Сам боюсь. С такими людьми свяжешься, еще убьют. Хорошие бы терновник ломать не стали. А с такими-то связываться..."
Сыновий сын - внучонок Славка. Ты видал ли его? Мать его рано померла, маленьких их двое покинула. Да отец с войны не пришел. Двух сыновей у меня война эта взяла, да зятя - третьего. А мужа-то у меня еще на той войне, в четырнадцатом году убили... Вот они мне двое внучат и остались... Вырастила их как своих. Так-то он, Славка, хороший. Только уж винцо стал выпивать. Пьет-то мало, оно его сразу сшибает. Вот придет, скажу, был ты у меня, не велел ему выпивать ни капли. Только что не послушает. Теперь еще бабы-то озорные. Ой, какая плутовка ему попалась. Пришел выпивши, она брякнула его на пол - да и лежи... Нехорошо. Тощий он стал. А вот, гляди, восьмой год с ней живет. Я ей ничего не сказала, только поревела да уехала. Всю-ту зиму не жила дома. Слава Тебе, Господи, люди-ти хорошие еще есть.
Второй год на квартире держут. Вот и живу. Сплю у них на печи. Благодать! Молоко - не считаются, коли не грех, наливают... Я ведь и смолоду так-то привыкла: среду и пятницу соблюдаю - пост... А как же?.. В среду-то Его, Спасителя, пымали - в каких Он руках-то, а мы тут наедимся? А в пятницу-ту распяли Его, а мы опять наедимся да напьемся... Да...
А вот по весне опять перебралась домой. Уж больно охота в своих-то стенах помереть. Всю жисть тут прожила, ведь всю жисть... Наверно, уж годов шестьдесят... Куда там? Боле... Восемнадцать годов сюда замуж вышла. Вот и считай. Купили мы дом-то этот с мужем. Сначала-то старенький был, а потом купили этот. Купили после дяди. Он уж двести годов стоит. Это лес-то мугревский, дедушков... Вон, гляди, бревны-то какие. Летось сымали на фотографию. Все измерили, все, все-все бревны. Все записывали и вышину, и потолок, и печь-ту... Ну, начисто все. Увезем, дескать. "Наверное, - говорят, - бабушка, в музей уедешь". А я: "Нет, не поеду. Останусь, мол, тут, не уеду". Всю жисть тут. Никуда не уезжала, нигде не работала, опричь крестьянского-то дела. Нигде не странствовала...
А вот и наш холкозный-то председатель, Петров Василь Иваныч... У него контора-то в Пировых, а сам-то он федурниковский. Тоже, может, выпивши был. "Помирай, - говорит, - скорее. Пора, - говорит, - помирать". А я мол; "Не хочу". - "А когда?" - говорит. "А вот коли наживусь". Это уж его дело. Он приказал пахать тракторами-то тими... Вот его бы постращать-то бы маненько. Притянуть бы его маненько хоть с какого краюшку... А ты в лето-то у меня еще побывай. Не один раз побывай. Вот лук пойдет, огурцы... Побывай к старухе-то, побывай... Уж кабы не Бог, да не Поленька, да не сумела бы я наврать, то уж теперь бы я, поди, заживо в яме-то сидела. Толкнули бы, да и дело с концом. Живу бы бросили погребать. Ям-то у нас полно. Вон у меня три ямы да рядом три...
Да вот Бог свободил. Не знаю, надолго ли... Вот так и лето буду на Бога надеяться... Я все за Бога держусь. Вот и человека он мне дал - Поленьку. А теперича мне - чего? До ста годов надо доживать... Обязательно. Чего ж теперь делать-то?
март 1971 г.
Отец Михаил
- Ну, чего глядишь? Чего смотришь?.. Тут ведь церква была, острожная церква. А теперь тут милиция, вон участковые сидят. Она, церква, без колокольни так и была, вроде как без главы... Так-то колокола висели, а главы-то не было, и паперть под ней... А внутри она, так-то небольшая церква, вся без колонн, целиковая. Один Алтарь. И священник тут один - отец Михаил. Старый был старый, а прозорливый...
Вот и слушай, слушай, коль охота... Тогда еще была русско-немецкая первая империалистическая война. Аккурат в половине сентября пятнадцатого года. И вот пятнадцатого-то сентября поступил тогда манифест-то от Императора, от Николая... Дескать, Божию милостью, Мы, Николай Второй, Царь Польский, Царь Астраханский объявляем всем нашим верноподданным, дескать, коварный враг Германия напала на Советский Союз.... то есть тогда еще на Россию, а поэтому, дескать... Не помню уж, как тут высказаться... Приказываю мобилизовать всех ратников второго ополчения... Ая-то аккурат был ратник второго ополчения. Значит, и мне приходится служить. И было мне в то время тридцать два года, в шестнадцатом-то уж году...
Двадцать шестого числа марта месяца мы и приехали с женой сюда, в город. Ночевали тогда в постоялом дворе. Двор Березина - на самом базаре. Аккурат угольный-то дом. Ну, по тому времени, конечно, постоялый двор. Кроме ночлегу наверху у него была чайная... В шесть часов утра у него был подъем, а полседьмого можно уж идти наверх, чай пить в чайную... Отпивши чаю в семь часов, пришлось нам с женой идти в военное присутствие, где принимают... Ну, вот, придя туда, узнаем, что приемка у них начинается в девять часов.Ну, чего делать? И вот в свободное-то время зашли мы с женой аккурат в эту церкву. В острожную церкву. И служил тут священник, старик лет восьмидесяти, как не больше... Отец Михаил...
Молилось тут женщин-старушек человек вроде того двадцать-двадцатьпять. Ну, служба кончилась, начал этот священник давать Крест. Выждал я, как приложатся все старушки, и так-то последним подошел и я ко Кресту. А жена сзади, за мной... Приложился и говорю ему: "Батюшка, благословите послужить на службу..." И вот, несмотря на его старость, после моих этих слов он вроде как выпрямился и взглянул на меня таким прозорливым взором, что я не могу стоять на этом месте. Пришлось сдать шаг назад. И вот он, священник, сделав крест, поднял руку и говорит: "Благословляю, Федорушка, послужи, послужи... Ведь тебя Федором звать-то?" Которого я не видал сроду, а он называет меня по имени, Федором... Ни я его, ни он меня сроду не видались, не знались... "Надо, надо, - говорит, - постоять за Веру, Царя, Отечество. Благословляю, благословляю! Ведь война пройдет недолго, недолго. Конец ей близок, близок. Вы уж были там, вон сколько там народу-то... И все идут, все идут..." Это - в присутствие-то. Вроде он с нами не был, а как будто там и был. Потом подходит под благословение жена. Со слезами на глазах. Он благословил и говорит: "-Не плачь, не плачь, молодуха, Бог милостив..." " - Батюшка, - говорит, - у меня больно детей-то много. Свекор параличной, свекровь-старуха семьдесят лет. С кем я буду работать? Все мал мала меньше... Старшей семь лет, а их пятеро..." " - Бог милостив, - говорит, - Бог милостив. Все сработается, все сработается это..." И опять повторил: "Войне-то конец близок, близок". Жена и говорит: "Батюшка, уж как на войну-то угонят, за день человека могут убить али искалечить. Может, придет калекой?.." Опять повторяет:"Бог милостив. Его на войну-то не пошлют. Он будет служить на окраине большо-ого города. Вот только сначала-то подольше, а потом частые, частые будут свидания". Тут он, отец Михаил, поднял вторично руку и благословил второй раз. И тогда уж я с полной надеждой вышел из церквы, от него. В душе уж был уверен я. С какой-то особой надеждой. По первости-то тогда угнали нас в Орел учился я там, в Орле, два месяца. А потом по особым спискам всех, кто что может работать, вызвали в Москву. Я как медник, паяльщик по профессии, служил на Преображенской заставе в Москве. Во второй запасной автомобильной роте... Аккурат на окраине большо-ого города. Все так оно и вышло. А на второй-то год уж и свидания, они у нас частые пошли. Через воскресенье. На пятичасовой поезд, на вокзал, и в ночь уж я дома... А служил на Преображенской заставе, до вокзала мне чего тут?.. Да...
Ну, возвратился я тридцатого апреля домой, это уж в восемнадцатом году. Побывал тогда у отца Михаила, поблагодарил его за прозорливость... И был я ему знаком до двадцать восьмого года. До его смерти в аккурат. Уж церкву-то эту нарушили, он там наверху, в Яропольи служил, у Троицы. И на дому я был у него не раз. Вот тут прям на горе домишко, по левой руке... Окошка четыре в улицу-то. Раз десять ли, двенадцать был у него. Жена тоже ездила, и жену, покойницу, он принимал. До двадцать восьмого года. Но уж он напутствовал, лежал. Не вставал уж не принимал которых...
Вот, помню, в двадцатом году. Неурожайно у нас было тут, и пришлось нам ездить за хлебом в разные губернии. В Нижегородскую. Туда, как поехали, я еще не заходил к нему. А было нас два компаниона, был еще сосед. На обратном пути, когда мы ехали из-под Арзамасу, где мы меняли иконки на хлеб, я зашел к нему, к отцу Михаилу... Ну, посоветоваться, навеститьпросто. Поговорили мы с ним так с полчаса. А на прощанье он мне и говорит: "Товарищ твой вторично поедет за хлебом туда же. А уж ты с ним не езди, не езди. Советую: не езди". Даже по плечу похлопал. "Я уж прошу тебя Федорушка, не езди. А то получится нехорошо... Как бы смертельно не получилось... Он съездит, а ты не съездишь. Вот запомни, так я советую". Ну, прошло время, товарищ-то уехал, а я остался. Сдержал свое слово, обещанное ему. Сосед вернулся, да и говорит. Наменял он это хлеб и поехал домой. Так вот утром... ну да, утром, догоняют трое на санях. Ну, комиссар что ли... Заставляют воротиться, ссыпать хлеб. А ему было лет шестьдесят пять ли, шестьдесят семь... Он стал просить, в ногах валяться у комиссаров-то этих. Семья, говорит, у меня очень большая, хлеба не хва- тает, приходится вот ездить... В ногах валялся и все ж упросил.
Отпустили они его с хлебом. "Черт с тобой, - говорят, - старый пес! Больше не езди!" Вот и говорит он мне; "Ладно, - говорит, - что ты-то со мной не поехал, послушался отца Михаила". А то ведь наставляли ему револьвер в ухо, хотели застрелить... Все-таки умолил, упросил. Старый ведь. А я-то был молодой, мог поссориться. Так вот и пронесло. А кроме того, мне тогда он, отец Михаил, сказал: "Ты еще съездишь, съездишь... Не один раз еще съездишь".
И вот в дальнейшем в январе два раза съездил я в Тамбовскую губернию, и третий раз съездил в Тамбовскую, уж в феврале... И жена моя покойница к нему ходила. И ее он принимал. Вот пропала у тестя лошадь. Кто-то увели ее. На площади гуляла она, на веревке привязана. Веревку пополам разрезал эту вор. Сколько ему надо было, этой веревки отрезал и увел эту лошадь.Тесть приходит за ней, убирать, а ее уж там и нет. Ну, вот дочь его, моя-то жена, ходила с матерью к нему, к отцу Михаилу. Спросить: как поступить? Где ее взять? Искать-то где? Он им и говорит, отец Михаил: "Да, случай нехороший, нехороший случай... Ну, Бог с ним, не разбогатеет и он. Нет, уж она назад, лошадь, не воротится. У вас пока есть лошаденка молоденькая, на ней и сработаете". И кто ему сказал, что другая-то лошадь есть? А у них была лошаденка. Держали они два года лошаденку. Ей уж третий год пошел... И откуда он узнал? Как колдун... "А уж ту не воротите, он уж передал ее на другие руки. Не воротите. Вот на молоденькой-то и сработаете потихоньку, сработаете". И еще раз потом жена с тещей ездили.
Случай вот какой. Это уж в двадцать седьмом или в двадцать шестом, не знаю. Я тебе так расскажу. У жены-то была сестра выдана на Кавказ. Она хоть за здешнего, а они на Кавказе торговали. И вот с двадцать пятого года, когда начали прижимать торговцев-то, во время нэпа, вот мне свояк и пишет: "Начинают обкладывать". Пишет: "Посоветуйтесь, сходите к отцу Михаилу. Куда нам деваться? Что делать?" Вот они тоже ходили. Обсказывали, вот, дескать, так-то и так-то. А он, отец Михаил, говорит: "Да-да, торговцы будут призрены. Всех торговцев разорят, а может, которые и пострадают". И посоветовал: "Пусть соберутся и ночью уедут. Пусть возьмут, что только могут, и уедут. А то разорят, разорят". Ну, мы им и написали. Получили они письмо... Да еще никто не согласился везти. Забрали они кой-чего в узлах. Серебра было много. Тогда целую меру рублей - они тяжелые - так и закопали в подполье. Дом тоже бросили, оставили. Только одежонку получше, поценнее. Так что сами-то убереглись. Ну, золотишко привезли, понятно. Захватили золото. А вот серебро-то не могли взять. Тяжело...
А то жена ездила вот с соседкой. Тоже в марте месяце, в конце марта. Вода была... На третий день Благовещенья. Это было в двадцать... наверно... первом или вдвадцать втором году, пожалуй что... Вот. У этой молодушки, вот у соседки-то... Она еще была молодая. Муж был в плену в Германии. В первую-то войну. И вот ее, конечно, сватали ее. Уж она хотела выйти, два года вестей-то не было. Она уж хотела замуж... Вот и поехала с женой-то моей. Мою-то жену он принимал... Посоветоваться, выходить ли замуж... А он, отец Михаил, и говорит: "Не думай, не думай!" - "Так ведь, батюшка, два года нет от мужа вести никакой". - "Ну и что поделаешь, что два года? Погоди с месяцок - будет и весть, будет. А еще пождешь месяц, так и сам придет тогда, сам придет". Ну, и весть-то получилась как. Был с ним в плену горьковский, нижегородской губернии солдат. А адреса-то они знали друг-дружки. Вместе были в плену. Вот когда их там из Германии отпустили, из плена-то, нижегородский-то приехал домой, да и пишет ему: "Петр Иваныч, - пишет, - поздравляю вас с приездом из плену..." А его-то и дома еще нет, а уж тот приехал. Сюда поздравляет, а еще тут не получили ничего. Вот это и первая весть. Аккурат в самую Троицу он и сам пришел. Ну, Троица-то уж в июне была... А ездили они на Вербной неделе во вторник.
У меня у старшей-то дочки была скоротечная чахотка. Жена тогда и говорит: "Вы, батюшка, помолитесь, дочка вот у меня хворает". А он, отец Михаил, говорит: "Знаю, знаю, я молюсь, молюсь... Но только уж она не выздоровеет. Невеста будет Христова. Но я помолюсь, помолюсь". И вот ден через десять она померла... Да...
Старый был, старый старик, худощавый, высокого роста. В двадцать восьмом году ему уж лет девяносто было, когда помер-то. И похоронили его на старом кладбище перед Алтарем Покровской церквы. Все я хотел побывать на могиле-то, поклониться ему, отцу Михаилу, да так и не пришлось. Теперь-то уж и могилу там не найдешь, все нарушили... Вот так Бог и не привел побывать.
Последний-то раз ходил я к нему в двадцать пятом году.Тоже посоветоваться. Вот задаю ему вопрос. "Я, батюшка, раньше по церквам работал, все больше на Урале. (А еще в те годы церквы-то не нарушены еще были.) Вот, думаю, опять сходить поработать туда же..." А он, отец Михаил, говорит: "Да, надо сходить, надо. А как тебя там поминают, как тебя там ждут. Сходи, сходи, Федорушка, благословляю, сходи". А потом и говорит: "А только ты туда не дойдешь. Ты будешь здесь работать, поблизости, поблизости".
Вот я три года тут и работал - в Пестяках, да в Ландихе, да в Ивановской области... А тут, как церквы нарушать стали, я так-то его и спрашиваю: "Отец Михаил, это что же - вере нашей конец?" - "Нет, - говорит, - Федорушка, нет... Вера православная не прейдет... Останется вера... Только мало будет верующих, мало..."
Вон там, на горе, его-то домик, отца Михаила... Старушка у него в доме жила. Может, и еще кто жил, а в кухне одна только старушка была. Придешь к нему днем, поднимешься... "Отец Михаил дома?" - "Дома,- говорит. - Я вот пойду скажу..." Пойдет старушка, скажет. Вот выйдет он в кухню. Поздороваешься, под благословение подойдешь. Он каждый раз тебя благословит. Это каждый раз бывает. Войдет. У него скамеечка. Так вот сам возьмет скамеечку. "Ну, давай, Федорушка, посидим, посидим..." На этой скамеечке посидишь с ним, с отцом Михаилом, поговоришь. "Ну, Федорушка, расскажи в чем дело? Как живете?" Все спросит. Я раз ему говорю: "Я вас, отец Михаил, считаю за прозорливого". - "Нет, Федорушка, не считай, не считай. Ко мне кто с открытой душой, я тем всю правду скажу, всю правду. А то ведь ко мне несколько раз на дню идут - кто с чем... И испытывать приходят, приходят. Вот тут давеча собираются ко мне идти, а сами между собою говорят: пойдем, дескать, со стариком поболтаем. Ведь все меня пытают, все пытают. Чего же я им скажу? Какую я им правду скажу, когда они меня пытают, пытают?.. Сели тут, я велел им ведро воды принести да палку. "Поболтайте воду-то в ведре, - говорю, - поболтайте." Они глянули - да бегом... Чего я им скажу, когда они: пойдем, говорят, со стариком поболтаем. А я им вынес ведро да палку дал. "Поболтайте, - говорю, - поболтайте".
март 1971 г.
Барыня, барыня...
- Что? Попить? Пейте, пейте! Прямо из ведра и пейте... Вода у нас чистая, ключевая... Этот колодец, между прочим, метров пятнадцать глубины... Барынин колодец. Так и зовем - Барынин... Я ведь еще и сам ее помню, Барыню... Только что называлась Барыня, а бедней бедного жила. Старая была престарая... Крючком согнутая ходила в халатишке засаленном...
А колодец этот у нас на все село единственный. И место-то тут какое, ты погляди. Все заречье видать, и большая дорога... У нее тут имение было, у Барыни... Теперь уж тут ничего не узнаешь, а ведь так-то вот от колодца дом шел. Большой, двухэтажный... Весь застекленный - окна, двери... Вид такой церковный, все такими полукружками было. Тут тебе стеклышко фиолетово, тут розово, тут оранжево... Столбы резные... Это - большой-то дом. А за ним церква стояла деревянная. Только уж она, Барыня, так ее и недостроила... А уж как хотела. Потом по леву руку маленький флигелек, келья. И по праву руку такая ж... Сарай был, кухня. В сарае-то тарантас, сани...
Ее так-то уж по имени никто и не знал. Все только; Барыня да Барыня... Простая была... Вот к Аннушке, в крайнем-то дому живет, бывало придет, сядет: "Аннушка, я к тебе". Картошки поест. Хуже бедных была... А летом к ней в большой дом все из Москвы дачники едут. Барины, барыни, баронесса... В кухне тут тебе обед готовят, варенье варили... А сама-то она во флигеле жила, в келье... Так поест кой-чего. Кошки у нее были, собаки - табунами. И ест она с ними с одних блюдечек...
Как-то отец мой, покойник, зашел к ней. Она его любила. Все бывало: "Голубчик, голубчик..." Зашел как-то к ней. "Зайди, зайди, голубчик, давай чаю попьем". А из этих блюдечек кошки да собаки едят... Отец сказывал: "Меня чуть с души не своротило". Уж на что бедная была, а церкву построила... Уж очень ей хотелось. Это она за отца... Отец у нее тут похороненный был в склепе... Про мужа-то она никогда и не поминала, а вот за отца. Над его, значит, могилой... Мы ведь и не знали, что тут склепа... Это уж потом получилось. Только что могила была, крест стоял железный, с венком... Да... А потом Барыня четыре столба вокруг поставила, а на их - церкву... Только денег-то у Барыни уж не было, кончились деньги-то.Так вот, сказывают, она луга свои заречные, да лес у ней был, да вот и именье свое - все продала тогда фабриканту Демидову... Все продала Барыня, чтобы, значит, это отца-то почтить, церкву-то поставить... А тут уж и революция, церквы-то, они и не нужны стали. И Демидов уж не попользовался купленным.
Тут и в городе-то их из домов попросили. Так церква у Барыни недостроенная и стояла. Но уж рамы были, полы настланы, потолок... Алтарь уж был. Только что иконы не повешены, а так-то все готово. Маленькая была церква, деревянная... Я ведь почему знаю, мальчонком еще с пацанами лазили в окно. В церкву-то.... Окна были - где квадратики, где овалы, где круги... А так-то Барыня образована была. Отец сказывал, три языка знала. Книг у нее было много, да все ноты эти для пианины... Потом все в кучу стащили да жгли. Ну, а которые книжки с картинками, те мальчишки растаскивали. А без картинок-то они кому интересны?.. Или вот ноты те...
Сначала у Барыни лошадь была да кучер Прокопий. Вон в том дому жил. А уж потом она лошадь продала, он ее на своей возил... А то и с Аннушкой на телеге ездила Барыня. И обряд тут уж унее какой - шаль да вельветово пальтишко... Молоко Барыне наши носили, деревенские... С большой дороги у нее огонек всегда было видать... А в буран мужики к Барыне ночевать ходили. "Пойдем, дескать, к Барыне". Она не запиралась даже. Отец-то ей, бывало, скажет: "Барыня, Барыня, больно просто ты живешь. Наскочут ведь". А Барыня ему: "Голубчик, если меня убьют, значит, судьба у меня такая..." Хотелось ей, видать, мученической-то смерти... "И потом, - говорит, - со мной Боженька и шесть дружков". Это наган у нее какой-то был, говорят, шестиствольный... Так-то Барыня отцу говорила.
И вот утром баба одна наша понесла ей молоко. Идет колидором, а шкапы-то все отворены, да ноты эти все из шкапов повыкинуты... Баба идет, только шкапы закрывает... Может, думает, Барыня угорела? Да и к ней скорей бежит... А она-то, Барыня, лежит на кровати и на стул свисает... Вся багровая. И на темени мозг видать... Ну, тут в колоколо ударили. У нас там часовня была. "Барыню! Барыню убили!" Все сбежались, а Барыня так на стул свисает с кровати и стонет" "О!.. О! О!" - "Барыня, кто тебя? Барыня, кто тебя?" Уж она ничего не ответила, не сказала...А знала, видно. Тут ее на лошадь, да и в больницу. Только не доехали, дорогой померла Барыня. Назад вернулись... Не довезли до больницы. А кровать-то у нее напротив двери стояла, и огонек всегда ночью горит. А на столике лежал наган припасенный.
Барыня, наверно, протянула руку - вот я в тебя выстрелю... Это мы уж после тогда плановали. У нее рука была расщиплена. Ей со свету-то в темноту не видать целиться... А тут ей по руке и шарахнули, выбили шестиствольного-то дружка... И тринадцать ран складным ножом в щеки. Мучили Барыню перед смертью, врач сказывал... Где, дескать, твои деньги? Все думали, есть у ней деньги... А уж чтоб прикончить, по темени шарахнули. Мозг был виден... Это уж в самую революцию, тогда и не искали их. Подумаешь, Барыню прикончили... У нее только что пропало - зеркало со стены, наган этот да шаль черная, она зимой ходила. Потом зеркало это у одних появилось. Было это зеркало у них, только теперь уж и они умерли. А кто искать-то будет? У Барыни никого не было.
Жила одна поедная. А денег у ней не нашли. Только что под матрацем вышитое это... Чем в церкви Дары покрывают, это нашли... Это она сама вышивала для церквы. А дом-то потом еще стоял. Сколько лет... И дом, и кухня, и церква... Только уж потом его, дом, внутри весь ободрали... Трюмо было, как в хорошем магазине, стулья на колесах мягкие, пианина... Все тогда вывезли в народный дом. И куда все делось? Видно, по начальству пошло... А дом-то весь растаскали. Такая по ночам таскотня была. Сначала рамы стали снимать, двери. Потому что ручки хорошие были, никелированные... Потом внутри весь ободрали - плинтуса, тес... Изразцовы печки - и те растащили. Тут все наши деревенские воры шабарили. А мы, молодежь, туда гулять ходили, беседу там устроили... Без дверей он стоял, без рам. Мальчишки камнями все стекла цветные повыбили... А гулять в нем хорошо - и холодок, и дождик не каплет. Гуляли мы там каждый вечер. Только что в церкву еще заходить боялись - стояла она на замке закрытая...
И вот, помню, в самый-то Духов День, на другой день Троицы, сестра у меня замуж выходила... Пропивать сестрицу-то к нам ехали... А тут часа в два, в три вспыхнул там пожарище... А она у нас за симпатию выходила. Такой был красавик... И вот старики считали, что плохо дело. Примета нехорошая - на свадьбу пожар... Парень-то был высокий, красавный... И вот на шестой год оставил он ее. Помер. Порок сердца... А к нам ехал тогда пропой. А мальчишки-то маленькие, наверно, курили на чердаке ноты-то эти, вот оно и занялось. А ведь она дранкой крыта, в Троицу, в сухоту-то такую... Ударили тут в колоколо: "Баринынин дом горит! Барынин дом горит!" Тот-то вон край мужики едва и отстояли. Только еще овин сгорел... Ну, и все Барынино именье подчистую... И церква, и кельи... Большой-то дом больно красивый был. Жалко... И весь стеклянный, насквозь его видать... Раз она, Барыня-то, попов к себе ждала, да в большом доме стол накрыла... Они, попы, ведь тогда ходили по домам в престол да на Рождество - Христа славили... Ну, вот и Барыня готовилась - накрыла стол. Пошла опять в кухню за новым, за кушаньем, а дверь-то стеклянную не заперла...
А мальчишки наши и увидали. Влетели туда, глядят-сыр... Мы ведь раньше-то сыру не знали, не пробовали, что такое. Глядят, сыр нарезанный стоит. Схватили да и убегли в болото. Давай пробовать...Тьпфу ты, какая гадость! Все побросали... А Барыня после жаловалась: "Только, - говорит, - я вышла, они у меня сыр стащили". Добрая была Барыня... Ну, а как уж тут все сгорело, мужики наши давай фундамент ломать, кирпичи таскать... И вот как тут получилось. Мальчишки там по саду бегали, играли. Сад-то еще был. И вот слышут, вроде в этом месте под ногой зыбит, гудит. Вроде там пусто... Ну, давай ковырять, а там кирпич. Это под церквой-то, где церква у Барыни была... Кирпич. А они давай камнем бить... Все клады тогда искали. Пробили в кирпиче дыру...
Кинули камень, а там загремело. Склепа, значит... Гроб-то был оцинкованный, как все равно вот ведро. Они все больше да больше расковыривают... Расковыряли, сделали как в подполье лазею... И гроб этот видать. Пойдем вот так же, бывало, по воду на колодец да полюбуемся - там гроб стоит... И как-то тут в воскресенье мужики наши подвыпили да и уговорились: давайте разломаем гроб.
Пожалуй, что там золотая шашка есть. Отец-то Барынин военный был. Говорили, генерал. Может, шашка золотая или золотые часы... Ну, Барыня-то не дура, она золотую вещь не закопает. А мужики-то дураки, думают захватить да поделиться... Зажгли сноп соломы, дело-то уж под вечер. Иван Иваныч Шеин спрыгнул туда и давай вскрывать этот цинковый-то гроб. Ломом. Думает, там часы золотые... Долго ломал, ведь завинчено все, да и заржавело. А там внутри гроб уж деревянный, чистый. Ничего ему не сделалось, вода-то не проходила... А внутри чего - костюм у его, кости, белая подушка, волосы... Уж исшеило все, истлело.. Все переворошили, склепу тут народ окружил. Ничего не обнаружили, чтобы там шашка или какая шпага... Или золотые часы. Только что медную пряжку нашли... Помню, волосы были желтые... А так все истлело. Переворошили могилу и разошлись народ... Его ведь еще когда хоронили.. Я-то не помню. Знаю только. Барыня по нем поминки устроила. С неделю сюда со всех деревень шли обедать... Только что объявили, чтоб со своими ложками. Все шли целую неделю. Кто хочет, поди... Кому только лень не пошли, а так все тут были... Это Барыня ему, отцу-то, поминки делала... Отца поминала.
Добрая была Барыня. И великая была лечебница. Лечила всех, никому не откажет. У нее аптечка была, травы Барыня выискивала. А уж у кого чирей, нарыв ли, примочки какие - всем помогала... Я раз прибегаю к ней: "Барыня, Барыня, дай пластырь". - "А у кого чего болит?" - "У Коли у братца палец нарывает". - "Николке бы не надо давать, он у меня собачью кастрюльку кинул". Три собачки были у нее мохнатенькие... Никогда не откажет. И всех нас, ребятишек, по именам знала...
Ну, расковыряли мы тогда эту склепу, а тут как на грех такая оказия... Барыниным садом тогда гоняли стадо. Ну, одна коровенка- то ли на нее бык насел, то ли своя же корова - только что залетела она в эту самую склепу... Ну, опять в колоколо: "Корова в склепу попала! Корова в склепу попала!" Чего тут делать? Народ собрался, ахают... Как ее вынешь? Веревкой поуродовать можно... Ну, тут вышел мой отец покойник. "Неси, - говорит, - мужики, лопаты". И давай в склепу-то землю кидать. Накидали земли, вровень стало, ну, корова-то и вышла... Да... Так вот и склепу зарыли. А уж тут чего осталось? Только что сад... Да внизу у Барыни была насажена березовая роща. Я еще мальчонком, помню, грибы белые там собирал. Рощу свели. Еще вкруг всего имения акации росли. Так квадратом, и канавы были. Забора-то у Барыни не было. Ну, акацию эту мужики вырубили, все плетни себе городили. Тоже всю свели...Вот и не осталось ничего... Только что этот колодец. Да место уж больно красивое... А колодец давно копаный. Мне уж шестьдесят шесть, а он все был, колодец-то. На свои деньги Барыня копала. У нас мужики и тут копали, и там, а все воды нет. А вот Барыня нашла. Ключи там какие-то... И на самой, гляди, горе. Вот добро-то какое оставила селу, поит нас водою сколько лет. А вода-то какая, вы распробуйте...
И вот раз мой отец-покойник к ней приходит. Барыня его любила, он разговористый был мужик. "Голубчик, - все говорит, - голубчик..." А он ей: "Барыня, Барыня, вот ты, говорят, поешь да на пианине своей играешь. Хоть бы раз мне чего сыграла да спела, а то ведь никогда". А голос, сказывают, у ней был замечательный... Вот уж сколько лет прошло, и отец помер, а я так и не забыл песню ту, что ему Барыня пела. Отец ее часто вспоминал, как она ее пела...
Открыла Барыня пианину, заиграла и запела нараспев:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...
июль 1971 г.
|



