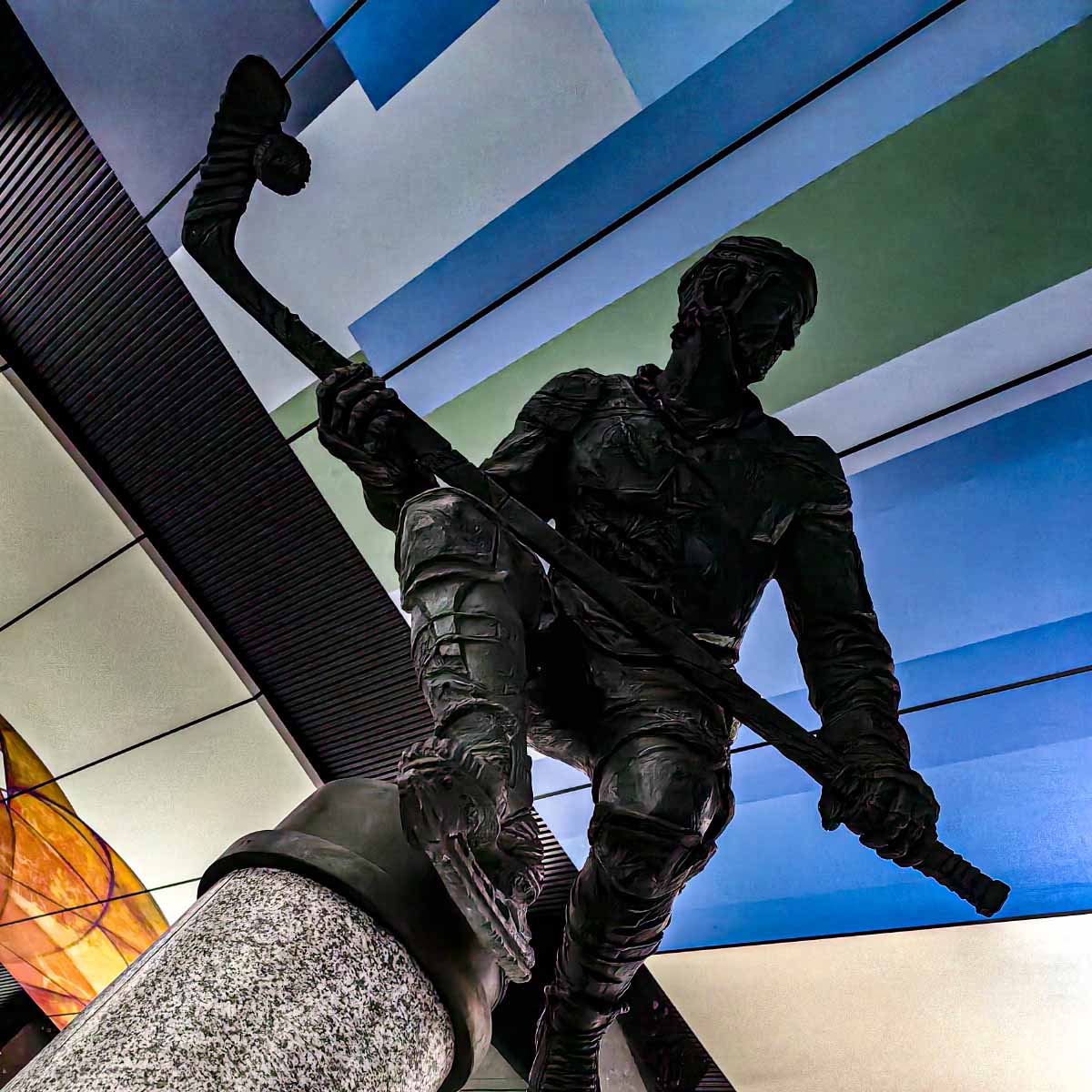Человек идёт на самоограничение ради сохранения базовых ценностей, но не всегда, а только, если уверен, что эти ценности без такой жертвы погибнут. «Меневцы» (представляющие меньшинство духовных детей Меня) убеждены, что без их усилий погибнет «наследие отца Александра». Здесь тоталитарное общество и ловит их. Чтобы сохранить наследие Меня, «меневцы» вынуждены декларировать, что «наследие Меня» есть просто очень качественное, но вполне традиционное православие, выражающееся во вполне традиционных формах: проповедь, катехизация, храмовые и внехрамовые благочестивые беседы, встречи, паломничества, лекции. Всё это известно в русской Церкви еще с начала ХХ столетия.
Единственным дополнением, правда, по возможности не афишируемым, становится экуменическая деятельность. Церковные власти и её терпят, поскольку она жёстко ограничивается личным благочестием (в отличие от экуменической деятельности на Западе, которая подразумевает участие и в в церковно-общественной жизни).
Самоограничение — трагическое явление, пока не сопровождается агрессией. Отец Александр Мень сознательно ограничивал себя ради сохранения прихода (отказался от эмиграции, от церковно-политической деятельности, подписал письмо, осуждающее диссидентов). Однако, он не утверждал, что его деятельность имеет какой-то исключительный характер или продолжает традиции «катакомбной Церкви», что его приход отличается от прочих, что какими-то исключительными чертами отличались авторитетные для него предшественники.
Иное дело «меневцы». Большинство духовных детей Меня, если они продолжают церковно-общественную деятельность, ведут её без ссылок на Меня, от своего имени, поступая точно так же по отношению к Меню, как он поступал по отношению к своим наставникам. В отличие от них, «меневцы» подчеркивают, что их линия в православии — исключительная, что Мень — фигура уникальная, что «из ста кроликов не сделаешь одного слона», так что из ста «обычных» православных священников не сделаешь одного Меня.
Мень действительно отличался от других священников, но именно то, чем он отличался, «меневцами» приносится в жертву выживанию в рамках тоталитарной церковной структуры. Катехизация, проповедь, лекции, в том числе, специально обращённые к людям с высшим образованием, — всё это практиковалось и практикуется и в других приходах. А то, чем отличался Мень, у «меневцев» принесено в жертву сохранению «наследия Меня». Типично советская ситуация спутаного сознания, в одну минуту декларирующего то, что в следующую минуту с испугом отвергается. Сознание, вполне полно описанное Шварцем в «Драконе» или Искандером в «Удавы и кролики».
О.А.Мень говорил в годы застоя о том, как должен жить христианин в условиях деспотизма:
«Одна крайность – стать как все и тем самым потерять всякую свою духовную экспрессивность; другая – противопоставить себя всем и превратиться в секту брюзжащих аутсайдеров. ... не аутсайдер, [но и] не полностью мимикризированный человек – вот какая трудная задача» (см.).
Мень пытался, естественно, описать свою собственную позицию. Сильной стороной этой позиции была самодисциплина, европейское (буржуазное) стремление к состоятельности — личностной, разумеется, но одновременно и стремление к социальной признанию. Неприятие лени, озлобленности, всякого саморазрушения. Неприятие символизма, когда неудача в творчестве маскируется разнообразными словами, погружением в организационную пустоту (споры о догматической правоте, к примеру). Слабая сторона этой позиции была в том, что далеко не всякое общество терпит личность. Мень положил много усилий на то, чтобы добиться признания — причём формального, в виде учёной степени — от религиозной организации, в которой состоял. Безуспешно.
Уходить от призвания богослова в дворники, безусловно, не следует, но так же безусловно то, что иногда призвание богослова оказывается несовместимо с социальным статусом богослова. Социумы слишком разные бывают. Этот конфликт организации и харизмы встречается во все времена, ярко проявился он и в Евангелии, и в истории Церкви. Приходится считаться с тем, что изгои и хамелеоны далеко не всегда противоположны друг другу. Изгои могут создать собственное общество, могут и объединиться с хамелеонами.
Бердяев говорил о том, что в революции победили именно «аутсайдеры», люмпены (он говорил «пятое сословие»). Было построено целое общество люмпенов. Конечно, никто не рождается люмпеном, но и людоедом никто не рождается, а просто вырастает среди людоедов и считает людоедство нормальным. Людоед одновременно и аутсайдер (во всяком случае, с точки зрения ядомых), и хамелеон.
Россия — страна «брюзжащих аутсайдеров» — изгоев среди нормальных людей, причём изгоев мечтающих о завоевании, изгоев гадящих, изгоев, уничтожающих всё нормальное, до чего могут дотянуться. Одновременно это и страна хамелеонов. (Особенно ярко это единение брюзжания, аутсайдерства и конформизма проявляется в господствующей церкви России). Её несчастные обитатели с завистью (обычно — затаённой) глядят на тех, кто не занимается каннибализмом. Курятина вкуснее, но поедание человечины акт обычно религиозный, а как можно выступать против религии? Это ведь означает подрывать основы общества. Приходится кушать, а иначе самого съедят.
Видимо, попытка описать христианство как «позицию» и не может быть удачной. С таким же успехом можно пытаться высечь в мраморе поющего соловья. Соловей будет, свист исчезнет. Начиная с XIX века христианские бюрократы и идеологи много сконструировали «концепций», «программ», «позиций». Они всего лишь подражали нехристианскому миру идеологий (впрочем, является ли грех из подражания менее грехом?). Если за пределами христианства такие документы имели и имеют смысл, служа общению и объединению единомышленников, то в Церкви общение и объединение есть отправная точка, а не конечная, и совершаются они не ради социального действия, а из полноты веры и любви. Пытаться выработать некий «христианский минимум», который бы обязал всех христиан быть против абортов, против капитализма, против социализма, против нацизма, означает статически описывать то, что подлежит не описанию, а развёртыванию в жизни.
Такое развёртывание возможно, и жизнь Меня свидетельство такой возможности, равно как и пределов, которые тьма пытается ставить свету. У самого Меня не было никакой социальной позиции, у него была антропологическая позиция — отношение к человеку как кому-то, с кем можно и нужно говорить, кто может и должен держать слово, быть честным и работящим. Этим он одних восхищал и привлекал, других ужасал и отталкивал. В условиях деспотизма эта антропологическая позиция оказывалась одновременно и социальной, и политической позицией, причём крайне радикальной.
Леонид Василенко, активно отстаивавший "наследие Меня" от всевозможных "искажений", однажды формулировал суть стратегии Меня так:
«Восстанавливать разорванные нити духовной преемственности. Среди хаоса и развалин создавать очаги осмысленной жизни. Противодействовать маразму. Духовно расти. Свидетельствовать истину. Содействовать Богу в том, чтобы Он растил нас и других. Пока очаги малы, они едва ли что изменят, но если их станет больше, если они будут солидарны в главном, тогда жизнь будет преображаться» (Василенко Л. Предисловие // Ерохин В. Вожделенное отечество. М., 1997. С. 9).
Туманная формулировка «солидарность в главном» становится яснее, если обратиться к отрицательной части программы Василенко:
«Но у нас в Москве православными часто хотят стать из-за отвращения к жизни, отчуждения от людей, озабоченности собой. Где-то здесь таится вражда к себе и к Богу. Но кто приходит в Церковь именно по этой причине, охотно сохраняет ее в себе нетронутой, бережет, не позволяет Богу вынуть из души эту занозу. И отвращение к жизни легко переходит в неприязнь и ненависть если не к самому Православию, то к каким-то кругам в Церкви, или к тем, кто ближе, — к друзьям, к жене, к детям. Кончается по-разному. У одних депрессией, у других бурной общественной активностью, с мрачной агрессией к «демократам», «жидам», обновленцам», или же, на другом социальном полюсе, — к «монархистам», «патриотам»... А у иных все кончается просто пьянством, разводами и прочим. Безрадостное, бездуховное, никчемное благочестие. ... это банкроты, даже если они вовсю шумят и действуют, находя много сторонников» (там же, с. 8).
Исключены из главного оказываются не только аморальные поступки (разводы, пьянство), но и «бурная общественная деятельность». Проблема в том, где Василенко проводит границу между «бурной» общественной деятельностью и «допустимой». Обращает на себя внимание, что, начав с цитирования слов Августина о христианстве, Василенко сразу же заменяет слово «христианство» словом «Православие», причём с большой буквы, и далее всюду говорит именно о «Православии», критикует ненависть к «Православию». Христианство более не упоминается. Здесь — отличие Василенко от Меня.
Собственную критику в адрес «патриотов», выразившуюся в серии статей, Василенко, видимо, считает не агрессией, а обороной. Он, к счастью, прощает собратьям по приходу пьянство и разводы, но не прощает агрессии в адрес православия. Бремя определения того, что такое православие и что такое агрессия он целиком берёт на себя. Эта озабоченность размежеванием с «неправославными» — тоже черта, не встречающаяся у о. Александра Меня.
Психология сознательного самоограничения христианства «православием» — не результат давления извне. Уже в начале 1993 г. свящ. А.Борисов отмечал:
«Происходит [в Церкви — прим. Я.К.] то же, что и во всём обществе. Когда пришла какая-никакая свободу, на смену страху, запуганности, подавленности вдруг явились амбициозность и безответственность ... если мы право-славные, следовательно мы единственно правы ... есть опасность освящения авторитетом Церкви этой естественной человеческой ксенофобии» (Борисов А. Бог гордым противится // Новая Европа - 1993 г. - №3. - С. 97-98).
На самоограничение пошли и реакционные православные (те, которые не ушли к "карловчанам" и "старостильникам" разных юрисдикий), и либеральные. Через два года вынужден был пойти на самоограничение и сам Борисов, поставленный патриархом перед выбором: отречься от выражения своих взглядов и сохранить приход, либо уйти. В отличие от "меневцев", однако, Борисов никогда и никого не упрекал за какой-либо выбор.
Русское православие штука интересная, а Христос все-таки интереснее православия, даже русского. К сожалению, наше православие часто таково, что приходится отличать его от Христа. Отец Александр интересен, потому что жил с Христом, а не с православием. Его бесханжеские слова о Христе оказались на Западе так же ко двору, как и в своем отечестве. Конечно, все равно христиане в меньшинстве – и слава Богу, нам и бурлаками хорошо. Особенно, если рядом Дух Христов и неисчезающая улыбка отца Александра Меня.